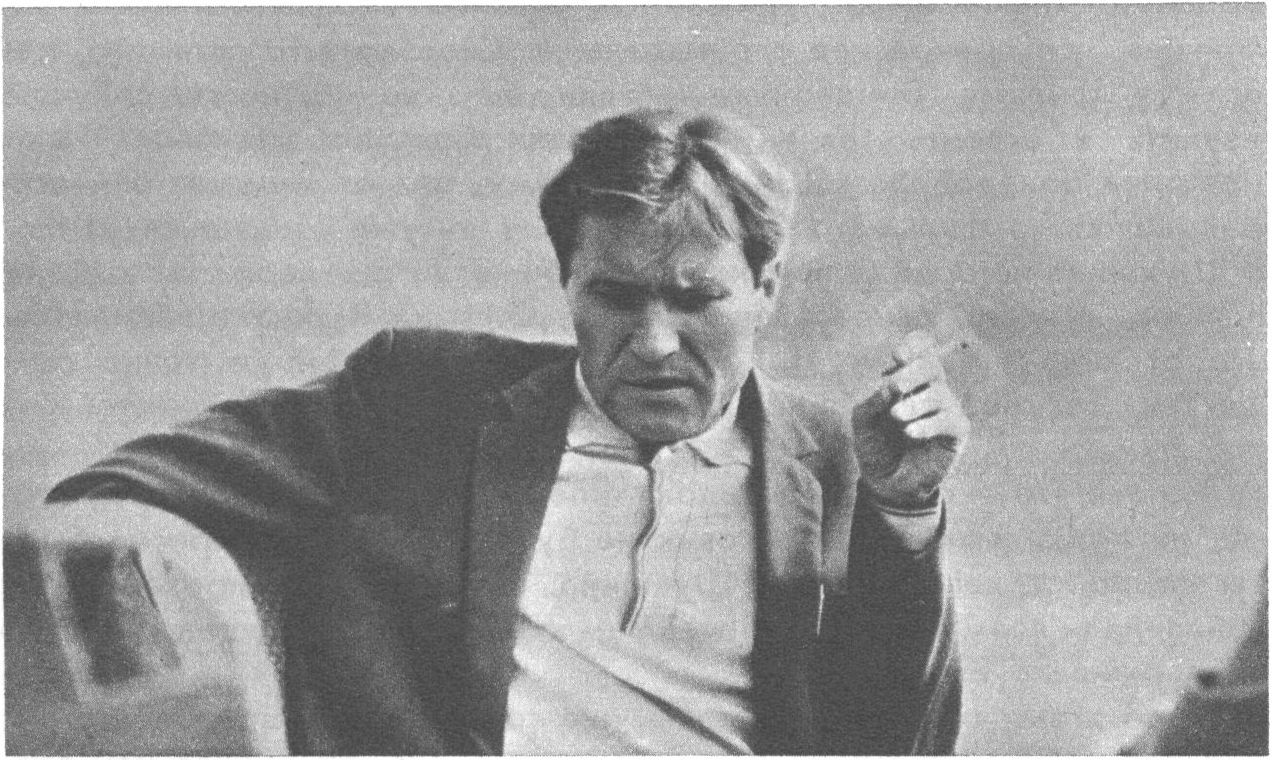|
На правах рекламы: • http://akbnn.ru/payonline-01-chto-eto-kak-rabotaet-i-stoit-li-doveryat/ |
Главная / Публикации / Л. Федосеева-Шукшина, Р. Черненко. «О Шукшине: Экран и жизнь»
Константин Рудницкий. Проза и экранВ год смерти Шукшина критики писали рецензии на его книгу «Характеры». Шукшина хвалили, но и журили: слишком уж привержен к одной теме, ею живет, но ею же и играет, чересчур часто дает интервью. (Этот странный упрек больно задел его.) Все похвалы или порицания звучали в согласии с привычными и обычными нормами повседневного литературного процесса. Шукшин писал, критики анализировали. Само собой ясно, никто не мог не то что предугадать или вообразить, но и в кошмарном сне никто не мог бы увидеть скоропостижную смерть Шукшина. Смерть ударила в тот самый момент, когда вся страна глядела «Калину красную», когда все читали новые рассказы Шукшина, сочинявшиеся с неудержимой и невиданной скоростью и появлявшиеся — будто плотину прорвало! — одновременно везде: в «Литературной России» и в «Неделе», в «Нашем современнике» и в «Авроре», в «Звезде»... Какой журнал ни откроешь — новый Шукшин! А кроме того, Шукшин написал пьесу, другую, закончил роман о Степане Разине, а кроме того, снимался в новой большой роли у Бондарчука. Он и писатель, он и актер, он и режиссер. Быть может, умопомрачительная интенсивность, с которой его нетерпеливый дар себя обнаруживал, помешала нам заметить главное, что теперь почти все уже чувствуют? В последние годы короткой жизни Шукшин стал уже себя постигать, стал понимать, что его многообразные занятия, иных восхищавшие, иных удивлявшие, иных побуждавшие шутить не то укоризненно, не то добродушно («современный вариант мастера на все руки, который тебе и печку сложит, и гармонь починит, и на той гармони сыграет»), мешают ему отдаться главному делу жизни. Главным же делом виделась проза. Думаю, что Шукшину и правда предстояло — останься он жить — бросить кинематограф. Проза все сильнее затягивала его и все сильнее, все прекраснее его выражала. Сколько я-то понимаю, работа в фильме Бондарчука давала ему возможность получше изучить и освоить технику постановки больших массовок. Такая практика понадобилась Шукшину потому, что от замысла эпически размашистого фильма о Степане Разине он уже отказаться не мог. В Шукшина-историка, признаться, я никогда не верил и уже не поверю. Мне-то кажется, что эпопея Степана Разина отвадила бы его от кино навеки и что, отсняв эту картину, он уж точно осуществил бы свое намерение остаться наедине со стопкой чистой белой бумаги. Но все это — область догадок, теперь уже пустых, что ни думай, как ни прикидывай, ответа вовек не будет. Другое интересно было бы понять: отчего все-таки Шукшина, современного прозаика, так привлекали возможности экрана? Чем кино соблазняло, долго манило и удерживало его? И по этому поводу высказаны уже соображения, вполне достойные веры. Сам же Шукшин говорил, и не раз, об уникальной возможности воздействия — и почти мгновенного — на многомиллионную аудиторию, которым обладает кино. Нельзя забывать и о стихийном актерском таланте Шукшина — конечно, этот дар искал себе применения и толкал на съемочную площадку. Однако ведь сперва Шукшин-актер не участвовал в фильмах Шукшина-режиссера, снимался у других — и снимался с успехом. Какая же сила понуждала его еще и режиссировать? Сам Шукшин сказал однажды, что мимолетный жест актера, который за доли секунды промелькнул на экране, требует подчас, если перевести его на язык прозы, целой страницы «самого глубокого, самого умного описания». Экран открывал прозаику Шукшину дополнительные, трудно доступные перу средства выразительности. Экран позволял ему договаривать непроизносимое, даже и размышлять в той сфере, где словесная форма слишком определенна и груба. Экран давал ему возможности, для прозы — запредельные, при всем ее словесном могуществе прозе недоступные. Или, иначе сказать, образы экрана дополняли на свой особенный лад лаконичную прозу Шукшина. В свою очередь скупая, немногословная проза Шукшина их, эти экранные образы, собой обнимала, из себя выталкивала. Фильмы Василия Шукшина рождались из его рассказов. Его кинорежиссура — прямое и естественное, как дыхание, продолжение его прозы. В этом вот смысле режиссерский опыт Шукшина, пожалуй что, уникален. Другого такого — не было. Сказанное не надо понимать в том смысле, что, мол, кинорежиссура была для Шукшина занятием как бы прикладным, второстепенным. Значение этого искусства он ставил очень высоко и относился к своим работам в кино чрезвычайно требовательно. «У нас еще не знают, что может кино... — сказал он однажды. — Несколько человек в мире знают... Ну вот, Феллини... Но у него другое. Я хочу попробовать. А?..» Это он говорил, снимая «Калину красную». С позиций такой требовательности к себе Шукшин почти весь свой предыдущий кинематографический труд готов был перечеркнуть, и, когда его спросили о фильме «Живет такой парень», — сморщился, ответил презрительно: «Больно благополучный...» Фильм этот появился в 1964 году и особо сильного впечатления не произвел. Кинематографисты тогда увлечены были формальными поисками, новациями А. Тарковского, М. Хуциева, А. Алова и В. Наумова, С. Урусевского. Первая картина Шукшина разочаровывала уже своей внешней непритязательностью. Скромная комедия, довольно узкая по теме, традиционная по форме, центростремительная, со всех сторон стянутая к фигуре главного персонажа. Никаких режиссерских метафор. Никаких операторских эффектов. Фильм как фильм. Сценарист и режиссер Шукшин делал вид, что он, дебютируя, показывает одну только свою профессиональную грамотность, с него, мол, и этого довольно. Форма дышала невинной кротостью, выступала с простодушием, едва ли не застенчивым. Автор притворялся, якобы его единственное желание — выглядеть не хуже людей. Кто знал Шукшина, тот догадывался, сколь напускное это смирение. Но его тогда не многие знали. Сейчас «Живет такой парень», вопреки презрительному отзыву автора, воспринимается как лента на удивление свежая. В ней слышна легкость, непринужденность походки Шукшина, в ней — утренняя бодрость и энергия. Картина озадачивает, смешит, возбуждает. Ее возбуждающая сила явственно исходит от героя, от Пашки Колокольникова, которого играет Леонид Куравлев. Пашка — по всем статьям истинно шукшинский герой, а герои Шукшина не могут быть поняты с первого взгляда. Они всегда приносят с собой загадку, над которой сто́ит — и хочется! — поломать голову. Сразу замечаешь, что со своей средой, с окружающими любимцы Шукшина обязательно оказываются в сложных отношениях. Им удивляются, на них сердятся, с ними ссорятся, над ними смеются. О них говорят непочтительно. О Пашке, например: «воображала», «шелапут», «балаболка», «трепло», «шебутной парень». Их не уважают. Они — странные, какие-то не такие. Однако же хоть и странные, экзотичными, чужими и чуждыми они не бывают, более того, в свое окружение вписываются совершенно естественно. Они немыслимы вне той самой жизни, в которой укоренены. Весь фокус, однако, в том, что, невозможные вне родимого контекста, они все равно — и непременно — из этого контекста выламываются. Невообразимые в отрыве от повседневности, их из себя исторгнувшей, они всякий раз против нее же и выступают, занимают по отношению к ней позицию агрессивную. Никто из них не мог бы сказать про себя, как Егор Булычов, что он, мол, не на той улице родился: это их улица, где родились, там им и место, только по этой улице они и могут пройтись, куражась и рисуясь. Однако куражиться им свойственно. Они бунтуют, хотя не бунтари, чудят, хотя не чудаки. Что-то мешает им жить ровно, спокойно, как принято и как должно. Речь идет не о некой позиции, занятой сознательно, по убеждению: чего нет, того нет. Речь идет о подспудном недовольстве, которое выражает себя во всевозможных завихрениях, когда смешных, а когда и трагических. В конфликт с привычным образом жизни, усвоенным с детства, они ввергаются не потому, что они — «другие», как раз наоборот, они обязательно «свои». Свои, однако же не такие, как все. Некоторые герои Шукшина застигнуты автором на полпути между деревней и городом: из деревни уже ушли, до города еще не дошли. В этом промежуточном положении усматривали причину их неожиданных и причудливых поступков, их разговоров «с подковыркою». Но, внимательно вглядываясь в картины жизни, которые запечатлены пером Шукшина-писателя или объективом Шукшина-режиссера, убеждаешься, что в движении от деревни к городу находится, в сущности, весь его мир. Напряженным встречным движением равно пронизаны и город и деревня, и вне этой динамики искусство Шукшина вообще не существует. В его большие города врываются и прорезают их жизнь суматошные, соскочившие со своей орбиты атомы деревенского бытия. Его деревни встревожены и сбиты с толку мощными излучениями города. Урбанизм сам по себе, как таковой, не соотнесенный с деревенской патриархальностью, Шукшина нимало не занимает. А сельской патриархальности, не затронутой новизной, то есть опять-таки воздействием города, он просто не видит, да ее давно уже и нет на свете. Если его герои выражают напряженность и наэлектризованность отношений между селом и городом более резко, более отчетливо, чем все прочие персонажи, то тем самым они, герои, лишний раз сближаются и смыкаются с «прочими», а не противополагаются им. Судьба для всех одна, и всех вместе, избранников Шукшина и тех, кто с ними спорит, ими раздражен, над ними смеется, несет огромная социальная волна. Она катится неудержимо, против этого потока не попрешь, никто и не пытается — у Шукшина, во всяком случае. Линия же противостояния героев и «прочих» прочерчена Шукшиным иначе. Она отделяет людей самобытных и ярких от пресных, бесцветных, а оригинальных — от ординарных. Любимцы Шукшина внутренне самостоятельны и берут на себя смелость строить собственную жизнь не по стандарту, не по ранжиру, но — на свой, особый манер. Это, разумеется, не спасает их от многочисленных ошибок, и очень часто они оказываются в проигрыше. Они могут иной раз проиграть даже и всю свою судьбу. Тем не менее только те, которые рискуют, Шукшину симпатичны. А те, которые послушны здравому смыслу и норме, живут наверняка, чаще всего неприятны, если не враждебны ему. Быть может, самая заметная черта излюбленных шукшинских «характеров» — большая сила воображения. Грубо говоря, все они, как и Пашка Колокольников, «воображалы». Мало образованные, чего-то где-то нахватавшиеся, они этими случайными знаниями, вернее даже — обрывками знаний — до крайности возбуждены. Вдруг ускорившаяся динамика жизни одним ударом вытолкнула их из накатанной колеи существования. Все они чего-то невероятного ждут, охвачены великими предчувствиями, пребывают во власти умопомрачительных фантазий, а потому не то что не хотят, просто не могут смириться с однообразным ритмом будничного бытия. Отсюда — неудержимое хвастовство, склонность себя переоценивать, рисоваться, играть — посреди самой обыкновенной жизни — какие-то необыкновенные роли. Ведь «странные люди» Шукшина скромными не бывают. Всем им вынь да подай — сейчас же, без промедления! — высочайшую красоту, ослепительную любовь, головокружительную фортуну. В каком-то смысле все эти «трепачи» и «балаболки» — романтики. Прозой жизни довольствоваться не хотят, что и доказано в равной мере убедительно любовными похождениями Пашки Колокольникова в поисках — ни больше ни меньше — «идеала» или метаниями Егора Прокудина в поисках «праздника». Комичность их претензий подчеркнута тем, что герои отнюдь не обладают способностью верно ориентироваться в сложной социальной обстановке, которая открывает перед ними сверкающие дали. Самобытность во взрывчатой смеси с нетерпеливостью только мешает им двигаться к цели. Да и самая-то цель видится смутно. Увы, они, эти любимцы Шукшина, толком не знают, чего хотят. Слышали звон, да не знают, где он. Но это только одна сторона медали. Есть и другая, не менее важная, тем же Шукшиным отчетливо вычеканенная: они не только «воображалы», они люди действия, дерзкие и даровитые. Каждый из них способен стать выше, чем ему определено реальностью. Мы долго смеялись над Пашкой Колокольниковым, глядя, как он безуспешно пытается ошеломить то одну, то другую девушку вычурной словесностью и потешным балагурством. А он вдруг взял да и ошеломил нас с вами. Когда загорелась машина с бензином, не кто-нибудь, а именно этот самый «шебутной» Пашка вскочил в кабину, взялся за руль и вывел горящий грузовик с нефтебазы, спас многих людей, сам обгорел. Вот он, хвастун и герой, лежит, весь забинтованный, в больнице, к нему приходит журналистка из молодежной газеты, спрашивает: «Что вас заставило броситься к горящей машине?» «Дурость», — уверенно отвечает Пашка. Журналистка делает большие глаза. А он с легким презрением и к ней и к себе поясняет: «Конечно. Я же мог подорваться». В это мгновение — такие мгновения Шукшин умеет ловить! — мы внезапно догадываемся, что неудержимый хвастун Пашка Колокольников настоящей цены себе не знает. И тут выступает наружу еще одно удивительное и обязательное свойство героев Шукшина: они лучше, чем сами думают о себе. И еще того больше: гораздо лучше, чем пытаются себя изобразить. Один малюет свой вымышленный портрет красками, которые кажутся ему пылающими, неотразимыми. Другой рвется играть как можно более эффектную роль. А курьез, демонстрируемый Шукшиным, в том-то и состоит, что игнорируемая реальность — выше вымысла, что оригинал — ярче хвастливого автопортрета. В фильме «Живет такой парень» эти курьезные взаимоотношения между правдой и вымыслом выражены и сценарно и сюжетно с веселой определенностью. Можно было бы даже упрекнуть Шукшина в чрезмерной наглядности противопоставления двух ипостасей героя: Пашка Колокольников — деревенский ловелас, пустозвон и болтун, нахватавшийся каких-то модных словечек и с их помощью стремящийся проторить себе дорожку к «идеалу», Пашка, который морочит голову девушкам, всем подряд, и бог знает что про себя плетет — это, как сказать, внешность и видимость. А суть — иная, суть в том, что Пашка способен, все так же шутя и балагуря, устраивать чужое счастье, может и подвиг совершить, не придавая ему никакого значения. Однако наивная простота взаимоотношений между сутью и видимостью — всего лишь необходимое условие игры, которую затеял Шукшин, к этой простоте фильм не сводится. Ибо с хвастовством и вычурными фантазиями Пашки изящно и тонко соотнесены мотивы эрзац-культуры и пошлости, вторгающейся по недавно проторенным, но уже избитым дорожкам в деревенскую жизнь. Саркастически поданный эпизод демонстрации моделей женской одежды в деревенском клубе обозначает начало темы, которая будет впоследствии завершена в «Калине красной» в сцене выступления самодеятельного хора. Тут фальшь, что называется, бьет в нос. Руководительница, развязностью и напористостью напоминающая опытную бандершу, заставляет жеманных манекенщиц одну за другой в кокетливых нарядах выходить на сцену. Пока они проделывают свои заученные эволюции, руководительница бойко выпаливает вздорный текст о «Маше-птичнице», которую «маленькие пушистые друзья» сразу узнают «в этом простом, красивом платьице». Весь этот пустой набор слов нагловато звучит на фоне кадров, являющих нам то салонные, замороженные улыбочки манекенщиц, то четкие, отработанные взмахи их ручек и твердые шажки их точеных ножек, то ленивые, скучливые физиономии добросовестных «лабухов» из оркестра. Параллельно Шукшин монтирует кадры, запечатлевшие лица зрителей: ухмыляющихся парней, разинувших рты, грубоватых деревенских девок, стыдливо опускающих глаза. Злость автора ощутима в некоторой затянутости эпизода: он чуть-чуть длиннее, чем надо бы. Другой эпизод из того же ряда снят спокойнее и, по видимости, беззлобно. Городская женщина, которую Пашка подвез, горячо втолковывает ему, что деревенские жители устраивают свой быт совсем некрасиво. («Это же пошлость. Элементарная пошлость», — говорит она.) Давно пора вместо никелированных кроватей с шишечками обзавестись тахтами, убрать все эти ужасные «подушечки, думочки», дурацких слоников... Стоит только повесить современные репродукции, купить торшер, поставить на стол какую-нибудь изящную вазу, и получится красивая жизнь. Тут Шукшин иронию прячет. У городской женщины — хорошее открытое лицо, видно, что говорит искренне. Слова ее падают на благодатную почву: Пашка слушает как завороженный. Машина его мчится по шоссейной дороге вдоль реки, дорогу обступают леса. А Шукшин будто усмехается из-за кадра и вдруг показывает нам, какие картины возникают в этот миг в воображении восхищенного Пашки. Пашка-то, оказывается, уже видит себя во фраке, в цилиндре и с тросточкой! Городские представления о красивой жизни его душа с восторгом принимает и тотчас шаржирует, доводит до абсурда. Авторская интонация отчетливо меняется и утрачивает ласковое дружелюбие в сценке Пашки и Кати Лизуновой. Судьба Кати обычна, и беда ее открыта настежь: муж бросил, одна с ребенком, легче легкого понять, каково ей жить. А Пашка с апломбом обличает как признак дурного вкуса ее вышивки, на Катин комод, где, само собой, стоят неизбежные слоники, укоризненно тычет пальцем и вещает: «Это же элементарная пошлость»... Вот тут он вдруг напоминает предводительницу манекенщиц, и становится стыдно за него. Бледная Катя сидит на никелированной кровати, в глазах ее стынет горе, она слушает Пашку молча. Вообще Пашкиной вздорной и напыщенной фразеологии, его апломбу и его позерству красноречивее всего в фильме Шукшина возражает молчание. Молчат поля. Молчит река, где гуси плавают. Молчат деревья. Молчат деревенские избы. В молчании складывается перед нами и перед Пашкой бесхитростный натюрморт на столе у старика и старухи: пузатый луженый, давно уже не чищенный самовар, грубые фаянсовые чашки, стеклянная вазочка с вареньем, сахарница, белая булка. Весь этот скромный стол говорит не о бедности, нет, только о достоинстве: чем богаты, тем и рады. Понять этот выразительный язык Пашка не в состоянии — что просто, он того не видит. Однако же не только претенциозность Пашки, но и душевность его отчетливо Шукшиным обозначена. Попытавшись отбить у инженера библиотекаршу и потерпев фиаско, Колокольников сам привозит девушку к сопернику и говорит ему с подкупающей откровенностью: «А ко мне зря приревновал. Мне с хорошими бабами не везет». Не умея найти свое счастье, свой «идеал», Пашка очень решительно и смело пытается связать судьбу в общем-то почти посторонних ему Кондрата и Анисьи. «Трепач», «пирамидон проклятый», неутомимый и неудачливый сельский ловелас, он, в сущности-то, мы видим, и человечен и добр, только свои истинные достоинства и в грош не ставит. Ближе к концу фильма, в больнице, Пашка, никак не желая просто и толково отвечать на вопросы журналистки, которую сыграла у Шукшина Белла Ахмадулина, все время порывается «сказать речь». У него тут одно желание: произвести впечатление на красивую, нежную, интеллигентную женщину, вдруг оказавшуюся рядом, присевшую возле его койки, поразить, ошеломить. Результат получается, естественно, обратный: то, что удивляло деревенских девушек, эту, городскую, смешит. А когда журналистка уходит и Пашка засыпает, во сне он видит себя в генеральском мундире, осыпанном орденами. Генерал Колокольников окружен свитой восторженных девиц. Среди них — все те, за кем Пашка волочился, все те, кто ему приглянулся, — даже модельерша «Маша-птичница». Тут, во сне, Пашка дорывается наконец до трибуны и произносит энергичную сумбурную речь. «Генеральский сон» Пашки (откровенная и веселая цитата из феллиниевского фильма «8½», шукшинская вариация на тему «гарема») напоминает о том, каким вздором начинена эта шальная голова и после того, как бедовый шофер совершил подвиг. Однако сосед по больничной палате, глядя на спящего Пашку, замечает с ласковой ухмылкой: «Шебутной парень! В армии с такими хорошо». Эта реплика — в каком-то смысле итоговая, к ней в конечном счете выруливает движение комедии, позволившей нам увидеть всю амплитуду колебаний Пашки Колокольникова между придуманной ролью и подлинной его человеческой сутью. Если Шукшин спустя десять лет назвал этот фильм «больно благополучным», то, скорее всего, потому, что понимал уже: натуры, подобные Пашкиной, сталкиваясь с трезвой действительностью, обычно узнают, почем фунт лиха. Их столкновения с прозой жизни куда более болезненны, они не вписываются в систему чистого комедийного жанра. Но, может быть, оно и к лучшему, что Шукшин не сразу об этом догадался. Ибо «Живет такой парень» — все-таки очень хороший, непринужденный, свободно разыгранный фильм, полный жизни и лукавого шукшинского юмора. Все и всегда соглашались с тем, что взаимоотношения города и деревни составляют главное содержание новелл Шукшина. Однако Шукшину приписывали настойчивое противопоставление близкой к природе жизни деревни — далекому от природы городу. С тех самых пор, как появился и начал кочевать из статьи в статью термин «деревенская проза», имя Шукшина, казалось, прочно занесено в эту рубрику. Многие критики уверяли, что Шукшину горожане будто бы неприятны и непонятны, одни только деревенские жители милы и дороги его сердцу. Читая новеллы Шукшина подряд, одну за другой, видишь, что коллизия «деревня — город» и правда выступает у него резко. И все же — вовсе не в том смысле, который Шукшину пыталась навязать критика, не в смысле восхваления деревни и порицания города или же (это иных критиков особенно тревожило) — развенчания интеллигенции во имя идеализации сельского образа жизни. Ощущая всю сложность многообразных проблем, которые порождает коллизия «деревня — город», Шукшин меньше всего склонен был эти проблемы упрощать. Напротив, скрытый пафос его простых рассказов — в утверждении сложности, а порой и неразрешимости конкретных казусов, возникающих как неизбежный результат социальных сдвигов. Шукшин, художник с идеальным слухом и острым критическим глазом, испытывал глубокую неприязнь и к умиленности вообще, в принципе, так сказать, и к решениям однозначно облегченным, быстрым, уверенным, но, увы, нереальным. Едва ли не главная особенность мощного дарования Шукшина, ощутимая всегда, каких бы он ни касался проблем, городских ли, деревенских ли — постоянное взаимопроникновение лирики и иронии, их сложное взаимное движение навстречу друг другу внутри едва ли не всякой ситуации, едва ли не каждого портрета, данного крупным планом, — и в прозе и на экране. Даже самые шутливые, по внешности беззаботные его рассказы таят внутри себя взрывчатое, угрожающее противоречие между видимостью и сутью. Лаконизм, с которым эти рассказы написаны, открывает широкую перспективу воображению режиссера, решившегося перенести их на экран. Надо думать, именно эта перспектива, заманчивая и многообещающая, вызвала у Шукшина желание два фильма, один за другим, поставить по принципу прямой экранизации собственных новелл. Так появились картины «Ваш сын и брат» и «Странные люди». В обеих этих картинах сам Шукшин не играл, хотя его актерское присутствие как бы предощущалось. Мы уже знали актера Шукшина, снимавшегося у других режиссеров, и мы часто улавливали шукшинскую интонацию у артистов, которые снимались в его фильмах. Шукшинские нотки угадывались и у Куравлева в картине «Живет такой парень». В фильме же «Ваш сын и брат» эффект «скрытого присутствия» Шукшина особенно сильный: впечатление такое, будто Шукшин растворил себя во всех ролях, мужских и женских, старых и молодых, будто он затаился в подтексте каждой реплики, и самый ритм ее, окраска, звучание предопределены Шукшиным. Отчасти, вероятно, так оно и было: то есть работа Шукшина с актерами стала более дотошной, настойчиво диктующей не только бытовую и психологическую правду ситуации, но и — непременно музыку фразы. И все же в фильме «Ваш сын и брат» смутно угадываемое присутствие Шукшина-актера объяснялось другой, более важной причиной. На самом-то деле угадывался не актер, угадывался автор. Фильм выражал Шукшина «всего»: Шукшина-писателя, Шукшина-артиста, Шукшина-режиссера. А это в свою очередь происходило потому, что тут впервые восторжествовала авторская воля: режиссер Шукшин заговорил собственным киноязыком. В картине «Живет такой парень» средства выразительности, которыми он пользовался, были еще общими, расхожими. Истинно шукшинским по киноживописи я решился бы назвать один только натюрморт бедного стола у старика и старухи, о котором уже упоминал. Вторая лента Шукшина, «Ваш сын и брат», тщательно настроена Шукшиным по камертону его собственной прозы. Тут режиссер Шукшин гораздо ближе к писателю Шукшину. С точки зрения профессионализма, сноровки, приемов и ухваток мастерства второй фильм Шукшина как раз поэтому более уязвим, чем первый. Во всем построении картины «Ваш сын и брат» заметно пренебрежение правилами ремесла. Притягивая кинематограф к себе, Шукшин и как сценарист и как режиссер довольно равнодушно проходит мимо возможностей, которые не упустил бы опытный профессионал. Эта видимая его беззаботность спровоцировала опрометчивую статью талантливого и умного критика М. Блеймана. Статья укоризненно называлась: «Режиссура — это профессия». М. Блейман упрекал Шукшина в том, что он-де сглаживает, опресняет свои новеллы, когда переносит их на экран, что в чтении новеллы звучат каждая по отдельности — более сильно и резко, нежели в фильме. Теперь уже ясно, что особенности кинематографической манеры Шукшина несколько запутали критика. Главная из этих не сразу понятых особенностей состояла в готовности Шукшина пренебречь целым во имя частного, заставить некоторые частные подробности говорить громко — громче, еще громче! — жертвуя иной раз динамикой во имя статики, ему необходимой. Такие вызывающие решения Шукшин принимал скромно, без всякой бравады, никак не подчеркивая их новизну. Тем более нелепыми они казались: новаторство выступало под маской наивности. Но и на такое восприятие Шукшин шел вполне сознательно. Ему не нужна была «пятерка по мастерству». Ему важно было выразить себя — и свое. С самого начала фильма образы природы вступают в кадр мощно и самостоятельно, как бы предупреждая, что скромными функциями фона довольствоваться больше не хотят. Шукшин снимал ледоход на широкой сибирской реке, сосульки, тающие под весенним солнцем, корову, жующую сено, лающую собачонку, поросенка, козлят, кошку... Он никуда не торопился и как будто вовсе не намеревался «завязывать сюжет». Он знай себе развертывал на экране весеннюю деревенскую сюиту. Три старушки сидели на завалинке и мирно беседовали. Разъяренная жена с поленом в руке встречала пьяного мужа. Девушки гуляли и пели на берегу реки, и Шукшин заставлял оператора Валерия Гинзбурга крупным планом показать их ноги в новеньких блестящих ботиках. Старик сидел, жмурясь на солнце, и блаженно покуривал, другие старики о чем-то рассуждали, еще одного старика тут же стриг деревенский парикмахер, невдали выбивали ковры, чистили одежду... Жизнь шла как шла. И только после того как Шукшин всласть налюбовался ее неспешным, обыденным и уютным ходом, он вдруг показывал нам Степана Воеводина. Лицо напряженное, усталое, на лоб надвинута сплюснутая кепка, шаг поспешный и неуверенный... В фонограмме, отчасти поясняя ситуацию, отчасти как бы посмеиваясь над ней, возникал мотив знакомой песни про бродягу, который бежал с Сахалина «звериной узкою тропой». Кто хорошо знал рассказы Шукшина, тотчас догадывался, что видит Степку, чьим именем названа прекрасная новелла. Степку, который немного не досидел свой срок в заключении, бежал и за это должен будет еще несколько лет отсиживать. Новелла «Степка» в сценарии фильма «Ваш сын и брат» была, что называется, на живую нитку соединена с рассказами «Змеиный яд» и «Игнаха приехал». Формально все эти новеллы вязались между собой только тем, что героями их были четверо братьев Воеводиных — Игнат, Степан, Максим и Василий, их сестра немая Верка, их отец, их мать. Сведя персонажей нескольких новелл в одну семью Воеводиных и скрепляя их отношения родственными узами, Шукшин полагал, что тем самым дает кинематографическому действию необходимую целостность. Впоследствии, комментируя фильм «Странные люди», который его очень разочаровал, Шукшин склонен был главную причину неудачи видеть в том, что картина откровенно разделена на три отдельные новеллы. «Опыт зрительских встреч с фильмами новеллистического построения, — рассуждал он тогда, — равен нулю. Мое предупреждение в титрах, что это «три рассказа», не сработало. Его пропустили, скользнули глазом — и забыли. Зритель настроился на определенную историю, на определенных людей. Но едва он привык к героям первой новеллы, приготовился вникнуть во все происходящее с ними, новелла кончилась. Это, видимо, было неожиданностью. Так возникло раздражение. Пока он собрался с чувствами для нового знакомства — прошла добрая половина второй новеллы... Почему я не сделал всех этих «Странных людей» жителями одной деревни? — казнился Шукшин. — Чего, казалось бы, проще: поселить их на одной улице?.. Не случайно трое героев моих рассказов, абсолютно не связанных между собой, — Степан, Игнат, Максим — стали в кино родными братьями». Все эти соображения Шукшина, на первый взгляд резонные, думаю, идут мимо сути дела и не помогают понять ни природу успеха фильма «Ваш сын и брат», ни причину сравнительной неудачи фильма «Странные люди». «Новеллистичность построения», хоть Шукшин и породнил между собой героев разных рассказов, в картине «Ваш сын и брат» тоже чувствуется очень сильно, и то обстоятельство, что в титрах она не объявлена, ничего не решает, все равно фильм отчетливо делится на самостоятельные «куски». После того как отыграна великолепная новелла «Степка» и действие из деревни внезапной перебивкой переносится в город, в общежитие, где Максим читает письмо матери (ее голос звучит за кадром) о том, что нужен, мол, змеиный яд, зрителю сразу же приходится перестраиваться на совершенно новые условия игры. Существенно даже не то, что меняется место действия. Куда существеннее другое: меняется интонация. Первая новелла фильма явила нам яркий характер, выразившийся в поступке почти невероятном, и последствия этого поступка будут трагические. Вторая новелла переключает нас в принципиально иную коллизию: в отличие от Степки Максим парень «правильный», разумный, и вся игра строится на том, что в городской жизни он ориентируется неуверенно, а жизнь эта встречает его свойственной городу быстрой деловитостью, сухостью, отчужденностью. И эта новелла снята по-своему выразительно. Но ее выразительность — из иного жанрового ряда, она выдержана в куда менее сильной эмоциональной тональности, не трагической, а комедийной. Поэтому переход к новой новелле не остается незамеченным. Фрагментарность существует и тут, но суть не в ней. Суть в том, что эмоциональный удар, который наносит зрителям первая новелла, обладает силой, прокатывающейся через всю картину. Начало фильма «Ваш сын и брат» эмоционально перекрывает и подчиняет себе все его дальнейшее развитие. Звон колокола, в который Шукшин сразу же начинает бить, слышится до самого конца картины. Удары этого колокола мощно и долго гудят в сознании зрителей. Хотя — и это очень характерно для кинематографической манеры Шукшина — каждый удар медлителен, тяжек. Каждый удар — открытие целой темы, для автора важной и выстраданной, вырывающейся за пределы данного фильма и получающей продолжение в других картинах Шукшина. Первая такая находка — тема немой Верки, которую в фильме «Ваш сын и брат» сыграла М. Грахова. Никогда еще немота не была такой красноречивой. Верка, которая, по словам отца, «любит всех, как дура», действительно излучает сияние восторженного восхищения всем, что только видят ее глаза. Легкая, подвижная, стремительная, она совершенно не страдает от своей немоты, более того, она вообще нисколько не ощущает своего несчастья. Напротив, она — самая счастливая на свете, и счастье выражено не только улыбкой Верки — летучей, быстрой, мгновенно озаряющей ее лицо и тотчас превращающей ее в красавицу, но и ее веселыми гримасками, детски беззаботными, и пританцовывающей походкой, и движениями рук, девически угловатыми, но ловкими, грациозными. Перед нами — горе немоты, совершенно никак себя не сознающее, не чувствующее, горе, легко отвергнутое, сброшенное с плеч раз и навсегда. И нет никакого горя! Одно только ликующее сияние, одна только радость бытия! Откуда что берется? Откуда это удивительное мироощущение, которое вдобавок еще столь щедро себя раздаривает? Ведь Верка своим несказанным светом делится и с сумрачным отцом — старик Воеводин как глянет на дочь, так и заулыбается, — и с матерью, и с соседями. Вот бежит за водой к колодцу, и светлое ее платьице мелькает вдали веселым огоньком, и всякий улыбнется ей вслед. Шукшин долго любуется Веркой. Достаточно долго, чтобы мы успели понять: ее счастье — это просто-напросто счастье быть среди своих. Немая Верка — возражение шукшинским говорунам и балагурам, вечно недовольным той средой, где Верка — будто рыба в воде. Для Верки появление Степки обозначило момент окончательной завершенности мира, в котором она живет: только Степки и недоставало, чтобы картина ее бытия обрела полноту идеальной гармонии. А Степка, поглядывая на немую сестру, улавливая ее ликование, всякий раз вспоминал, что кратковременное торжество, вызванное его приездом, скоро и неминуемо отзовется бедой. Но думать об этом ему не хотелось, он торопливо отворачивался от сестры — и, значит, от близкого будущего, — весь отдаваясь сиюминутной радости застолья... Деревенское застолье, которое заняло почти целую часть всего фильма, — еще одна важнейшая находка Шукшина. Тут начинается тема, повторенная и многократно усиленная потом в «Печках-лавочках» и в «Калине красной». Что-то для Шукшина было тут чрезвычайно важно. Что-то заставляло его долго и внимательно разглядывать непритязательное современное пиршество, бутылки «светленькой» и «чернил», принесенные из сельпо, граненые стаканы, мелкие тарелки со щербатыми краями, неизбежную закусь — грубыми ломтями нарезанную колбасу, сероватое сало, соленые огурцы, помидоры, краюхи хлеба, наблюдать, как усаживаются за стол гости — одни привычно, нетерпеливо, с вожделением поглядывая на водочку и поспешая налить себе и соседям, другие — «культурно», с нарочитой медлительностью и церемонностью. Что-то понуждало Шукшина не упускать ни одной подробности: и как тесно садятся, и как по-разному пьют, кто смачно крякая, кто болезненно морщась, кто стыдливо закрывая лицо рукавом... Что-то манило Шукшина следить за тем, как после первых двух-трех опрокинутых стаканов застолье разбивается на осколки разрозненных, сбивчивых, шумных, неразборчивых разговоров и как вдруг — момент, важнейший для Шукшина! — в общем шуме возникает песня и сразу всех себе подчиняет. Никогда, ни разу не позволил себе Шукшин — хотя этого подсознательно ждешь, к этому приготовляешься — дать на такой гулянке волю песне красивой, старинной, редкостной, голосу чистому и сильному. Нет, не такие песни, вызывающие восторг фольклористов, звучат над его застольями, а — песни банальные, пьяные, испошленные. Вот захмелевший Степка старательно выводит:
Он поет громко, ни на кого не глядя, горестно опустив глаза, вкладывая всю душу в глупые слова и с величайшим чувством выводя примитивную мелодию. А застолье замирает и замолкает. Его слушают. Камера скользит по лицам гостей — простые деревенские, задубевшие на ветру, грубоватые, будто топорами вырубленные черты. Шукшин напряженно ловит миг, когда песня овладевает столом, чтобы вдруг подметить и зафиксировать — что же? Тоску по красоте? Жажду общности? Да, все это мы угадываем в лицах, которые медленно плывут мимо нас. Однако проницательная камера Шукшина улавливает и нечто куда более важное: власть поэзии, перед которой беззащитны и грубые лица и грубые нравы. Пусть песня глупая, слова пустые, мелодия — дрянь, не в этом суть. Суть в том, что едва лишь песня начинает звучать, каждый от себя, своим воображением тотчас дополняет и на свой лад дорисовывает картины, которые она с собой приносит. Пока песня поется, все эти люди — другие. А кончилась песня, оборвалась, и опять не сразу и неохотно в разных концах стола заговорили о разном, кто во что горазд, и обрывки разговоров, пойманные фонограммой — все какие-то бестолковые, тусклые, прозаические. Но вот женский голос снова завел, высоко и надрывно: «Глухой неведомой тайгою...» — и теперь уже поют все. Поют долго. Поют самозабвенно — то есть буквально забывая себя, свое, стремительно уносясь из этой вот реальности, от этих пустых бутылок и тарелок с объедками в какие-то фантастические дали... Как только долгая песня кончилась, сразу весело, разухабисто заиграла гармошка, и всех повело в пляс. Пляшут девки и парни, мужики и бабы, старики и старухи. Разбитные визгливые частушки подстегивают, подгоняют пляску, и, кажется, весь мир сорвался с места, сдвинулся и опрометью бросился куда-то прочь, подальше, как можно дальше от опостылевших будничных очертаний. И как бы силясь затормозить, остановить это стихийное движение, крупным планом возникает неподвижное, застывшее в напряжении лицо немой Верки. В ее широко раскрытых глазах — испуг. Ей, немой, дарована горькая привилегия безошибочных предчувствий. И вовсе некстати сейчас-то, когда вся жизнь бесшабашно закружилась в порыве неудержимого веселья, Верка — сквозь пляску — угадывает бесшумное приближение беды. Беда возникает в будничном и унылом обличье деревенского милиционера. Тот даже и не входит в избу: неловко, не хочется ему омрачать праздник. Милиционер останавливается возле ворот, и Степка, увидев его, тоже буднично и неприметно выскальзывает из родительского дома навстречу собственной участи. Они вместе молча выходят из кадра — Степка и милиционер, — выходят под разгульные переборы гармони и под пронзительные выкрики частушек. Милиционер, который не то что ведет Степку, а просто рядом с ним идет по деревенской улице, милиционер этот недоумевает, никак не может взять в толк, что же, собственно, со Степкой приключилось... «И все-таки, — говорит он, — я ни черта не понимаю: три месяца не досидеть и сбежать. Прости, но таких дураков я еще не видел». А Степка тоже не умеет объяснить ему свое поведение и, скорее всего, думает о себе точно так же, как и милиционер. Сейчас, в эту минуту, собственное безрассудство и его озадачивает. Алогизм Степкиной ситуации может быть отчасти разгадан лишь в том случае, если мы сумеем соотнести власть песни, только что гулявшей над застольем, с душой Степки, подвластной не разуму, но — тоске по чему-то лучшему, высшему, если почувствуем, как необыкновенны — и как вычурны! — бывают пути, выводящие героев Шукшина из прозы. Не могут они, любимцы Шукшина, одной только прозой жить, не вытерпливают! Что же теперь-то?.. Милиционер, страдая не меньше Степки, с трудом оттаскивает плачущую и мычащую Верку от брата, выталкивает ее из сельсовета на улицу, под проливной дождь... Конечно, в сравнении с кромешным горем немой Верки, с ее слезами и мычанием история, рассказанная потом, сильного впечатления не производит. И, следуя за Максимом, который безуспешно мотается по Москве в поисках змеиного яда, мы еще долго не можем принять близко к сердцу ни его неудачи, ни его нарастающее раздражение против равнодушных фармацевтов. Неминуемо сбиваясь с ритма в этом переходе от одной новеллы к другой и неотвратимо теряя набранную фильмом высоту, Шукшин все же знает, куда клонит, и свои цели из виду не выпускает. Когда Максим приходит к брату Игнахе и вся городская жизнь Игнахи враз выстраивается перед нами заносчивой, высокомерной антитезой деревне, тогда оборванные нити вновь связываются, и Шукшин весело дает волю режиссерскому шутовству. Он тут режиссирует с наглостью скомороха. Жизнь Игнахи показана в совершенно неправдоподобной, немыслимой цельности: такая цельность может явиться только во сне. Такой слаженности, подогнанности, пригнанности друг к другу всех подробностей в обыкновенной реальности, пожалуй, и не сыщешь. И вот ведь что интересно: быт Игнахи организован как будто по подсказке городской женщины из фильма «Живет такой парень», по тем самым стандартам эрзац-культуры, которые она восхваляла. Тут и тахта, и торшер, и «современные репродукции», и телевизор, и транзистор, и холодильник — полный набор вещей, которые вкупе образуют оптимистическое единство, чрезвычайно близкое к идеалу. А каков идеал, это мы узнаем чуть позже, когда Игнаха приедет на побывку в родную деревню и будет с упоением рассказывать о шестнадцати золотых статуях на выставке, возле фонтана «Дружба» — это самое прекрасное изо всего, что он в Москве да и в жизни видывал. Быстрыми, ехидными штрихами Шукшин открывает нам подоплеку полированного оптимизма, которым светятся не только вещи, но и лица — горделивое, сытое лицо Игнахи и капризное личико его вздорной жены. В отличие от героев Василия Шукшина, которые никогда не могут толком себя объяснить и неуверенно ориентируются по карте социальной действительности, Игнат Воеводин как раз прекрасно знает, чего хочет, и обладает исключительным даром учитывать в свою пользу все современные общественные условия. Самодовольство Игнахи покоится на прочной основе «умения жить». Такие вот персонажи, умеющие устраиваться, вообще-то сравнительно редко занимают внимание Шукшина, и если появляются в его прозе и на его экране, то только для того, чтобы по контрасту подчеркнуть всегдашнее — и душевное и практическое — неустройство любимых его героев. Своего рода апогей такого противопоставления — вовсе уж шутейный, если не шутовской эпизод, когда Воеводин-отец настойчиво стравливает двух своих сыновей, Игнаху и Ваську. Старику Воеводину смерть как хочется, чтобы деревенский Васька городского Игнаху поборол, положил на лопатки. Миролюбивый увалень Васька, однако, бороться с братом вовсе не желает, чем приводит отца в состояние крайней досады и раздражения. «Ну хотя в ухо стукнитесь, что ль», — просит отец. Но Васька и в ухо Игната бить не желает... Этой уморительной сценке, происходящей на берегу широкой, задумчивой Катуни, предшествует в фильме длинный проход немой Верки по деревенской улице. Горе, которое причинила ей эскапада Степки, не то что забыто, оно только задвинуто в самую глубь души. А сейчас Игнаха привез сестре из города новое платье, она его сразу надела и сразу помчалась показывать всем. Легкая, подвижная, быстрая, она ведь не хвастается, когда останавливается перед всяким, кого ни встретит, когда, кокетливо поворачиваясь, демонстрирует обновку всему селу, старикам, старухам, мальчишкам, девчонкам, парням, работающим на лесопилке. Она просто-напросто от чистого сердца всем раздает свое счастье. Она и вообразить себе не может, что ее радость не доставит радости другим. Самое удивительное состоит в том, что Верка не ошибается. Она бежит, летит, оставляя за собой улыбки — нежные и доброжелательные. Будто рассыпает улыбки вдоль улицы. В них-то и содержится самое сильное возражение всему образу жизни, усвоенному Игнахой, а заодно — тем представлениям о красоте, которые Игнаха с женой, «Шурупчиком», проповедуют. В конечном-то счете главная тема фильма проступает именно как тема красоты — не столько даже мнимой или подлинной, сколько — самопроизвольной или натужной, естественной или нарочно устроенной. Вопрос, как лучше жить, решается только в одной плоскости: как жить красиво? Нескрываемое восхищение, с которым объектив оператора следит за немой девушкой, выражает авторское отношение к теме, столь многообразно и настоятельно проступающей и в прозе Шукшина. И при всех перебоях ритма, при всех спадах напряжения, свойственных картине «Ваш сын и брат», она все же этой главной теме полностью подчинена, ею скреплена и ее силой одолевает, превозмогает фрагментарность постройки. Фильм «Странные люди» такой внутренней целостности лишен. Его тема как будто заявлена в самом названии, но герои трех новелл — «Чудик», «Миль пардон, мадам!» (в фильме этот рассказ назван иначе — «Роковой выстрел») и «Думы» — слишком разными «странностями» наделены, и соответственно автор к ним относится по-разному. Три портрета, поданные то с откровенным сочувствием, как Васька-Чудик, которого сыграл С. Никоненко, то с иронией, как Бронька, возбужденно и нервно сыгранный Е. Лебедевым, то и с иронией и с сочувствием сразу, как Матвей Рязанцев, представший на экране в исполнении В. Санаева, никак не складываются в триптих. Чудик подан Шукшиным с мягким чеховским реализмом, и то обстоятельство, что в фильме он оказывается возле чеховского дома-музея в Ялте, выглядит по-своему знаменательным. Бронька увиден сквозь линзу гротеска, насмешливого и уничижительного. Новелла «Думы» приносит с собой опять другие средства выразительности, подсказанные поэтическим кинематографом наших дней. В прозе Шукшина мы легко обнаружим все эти — да и другие — стилистические пласты. Интонация меняется неуловимо для читателя, и он, переходя от новеллы к новелле, сам того не замечая, настраивается на волну, которую предлагает автор. Возможно, что такая способность переходить вслед за автором из одного регистра в другой обнаружила бы себя и в восприятии фильма, если бы... Если бы Шукшин не приложил слишком больших и слишком заметных усилий, чтобы добиться впечатления стилистического единства там, где его нет и не может быть, если бы он не старался представить эти «три рассказа» как нечто цельное, тяготеющее к общности средств выразительности. Но он старался. И голос автора за кадром, и песни, звучащие за кадром же — почти независимо от того, что в кадре происходит, — все это результат стараний, по-видимому, все же напрасных. И хотя многое и тут удалось режиссеру, тем не менее сам Шукшин не зря считал, что «Странные люди» цельностью не обладают. Начиная работу над следующим фильмом, он сделал для себя некоторые важные выводы и принял ответственные решения. Вместо экранизации своих новелл он теперь вознамерился снимать фильм по оригинальному сценарию. И сам отважился сыграть в этом фильме главную роль. С этого момента (и в результате двух этих решений) кинематограф Шукшина заметно изменился. Выражение «Печки-лавочки» ничего не значит и уже по одной этой причине ни на какой язык не может быть переведено. «Печки-лавочки» — понятие смутное, в нем выражены и веселое недоумение перед лицом запутанных жизненных обстоятельств, и готовность им безропотно подчиниться, и способность их превозмочь. Это формула из лексикона сельского балагура, которая применяется тогда, когда ничего определенного по поводу происшедшего сказать нельзя, кроме только того, что оно, происшедшее, удивляет, озадачивает: «такие вот Печки-лавочки». С одной стороны — вроде как «сам черт не разберет», а с другой стороны — «всякое бывает». Слова о «Печках-лавочках» могли бы эмоционально завершать всякую новеллу Шукшина. Они очень естественно озаглавили фильм, которым Шукшин, в отличие от всех предыдущих, был доволен. В «Печках-лавочках» некоторые мотивы предыдущих фильмов Шукшина подхвачены и усилены. Сделано это откровенно и кажется даже, что с вызовом. Картину опять начинают деревенские кадры — Иван Расторгуев, которого играет Шукшин, косит. Крупный план: напряженное, упрямое лицо, капли пота на лбу, ворот полосатой рубахи расстегнут. Общий план: широкая панорама лугов, сидит в траве женщина, домовитая, спокойная. Вдали видна все та же красавица Катунь. Идут по реке плоты, и плотогоны зычно перекликаются с эхом. Перебивка: две девочки мирно спят в одной постельке. Все эти кадры омыты спокойствием: в них — тишина. На короткое мгновение крупным планом возникает лицо Нюры — Л. Федосеевой, круглое, тихое, красивое. А затем сразу же мощно вступает в фильм уже знакомая тема деревенского застолья. Повод для пиршества на этот раз необычайный: тракторист Иван Расторгуев с женой своей Нюрой отправляются в Крым, на курорт! Само по себе событие это, конечно, из ряда вон выходящее. От Алтая до Черного моря — многие тысячи верст. И не то удивительно, что передового тракториста Ивана Расторгуева наградили путевкой в крымский санаторий, а то удивительно, что он такую награду принял. Шутка ли, впервые в жизни отправиться за тридевять земель, и для чего? Для того, чтобы месяц нагишом валяться на пляже? Все, что сопряжено с этой идеей, вполне обыденной для городского жителя, идет решительно вразрез с психологией крестьянина, еще недавно совершенно не вмещавшей в себя не только понятия «пляж» или «курорт», но и понятие «отпуск». Деревня — не отпускала, и отдых деревня понимала на свой лад. От века знали, отдых — гулянка для молодежи, сон для старших. Поездка на морской курорт в обычном, прежнем контексте деревенской жизни ничуть не менее феноменальна, чем полет на Луну. Шукшин-то понимал это прекрасно. Он сумел и нас заставить это почувствовать и прочувствовать — прежде всего через поведение Ивана Расторгуева. Нюра, его жена, та откровенно робеет перед небывалыми перспективами. Просто испугана. Знает: зарвался Иван, сам понимает, зарвался, но ведь потому-то и не отступит, такой уж характер поганый! Смятение заметно все же и на лице Ивана. Вид у него такой, будто не на курорт, а на фронт собрался. Мысленно он навеки прощается со своей деревней, со всем своим миром. Именно сквозь наплыв его чувств и возникают перед нами кадры застолья, которое идет своим чередом, своим выверенным, отработанным ходом, это ритуал, который все уравнивает: именины, крестины, свадьбы, похороны, встречи и проводы. И снова режиссер Шукшин влюбленно и неотрывно и крупными и средними планами показывает нам крестьянские лица, просветленные и одухотворенные силой песни. Но вдруг камера неожиданно сдвигается в сторону, и мы видим старого-престарого старика. Ему тысяча лет. Он сидит на табурете один, высокий и прямой, на фоне беленой стены, слушает. Лицо его не выражает ничего, кроме только старости, кроме только грусти ушедших десятилетий, которые впечатались глубокими морщинами и в лоб и в щеки, и смотрят прямо перед собой тусклыми запавшими глазами из-под седых взлохмаченных бровей. Большие грубые руки старика покойно лежат на коленях, и этими руками, их тяжелой недвижностью, загадочно и внятно напоминают о себе земля, которую они обрабатывали, соха, которую они вели. Прошлое, дряхлое, но еще живое, немощное, но независимое, слушает — то ли внимательно, то ли безразлично — нынешние песни. А у ног старика зевает ленивый пес. Такие вот внезапные, сразу и навсегда врезающиеся в память кадры возникали в фильмах Шукшина как будто в стороне от их главного движения, поодаль от сюжета. Логике сценария этот старик вовсе .не нужен. Полноте жизни, естественности дыхания фильма он абсолютно необходим. Способность Шукшина улавливать и вдруг выдвигать вперед образы, по отношению к проблематике и сюжету как будто посторонние, запредельные, как раз и придавала его картинам привкус подлинности. Он умел — и часто — распахивать настежь двери, выводящие из коридора, обусловленного сюжетом, прямо на простор никак не организованного своеволия правды. Точно так же умел он подчас нарушать — во имя все той же правды — и размеренный темп действия. В «Печках-лавочках» застолье занимает столько времени, что кажется даже, будто Шукшин вообще больше ничего, кроме этой гулянки, снимать не намерен. Не отрывался бы он вовек от этой натуры, такой простой и многозначной, от разброда пьяноватых речей, от этих песен, от этих неутомимо приплясывающих ног... И все же пора, пора! Уже и гулянка выкатилась из тесной избы на волю, на пригорок у самой реки, уже под открытым небом продолжается пляс, а Ивану Расторгуеву с Ню-рой пришло время уезжать. Да вот и автобус! И уже за окном автобуса поплыла, закачалась алтайская земля. Кто он, Иван Расторгуев, чье путешествие начинается, в чьи волнения и причуды нам предложено вникнуть, чьи «закидоны» и чью простоту нам предстоит понять и оценить по достоинству? Снова один их тех любимцев Шукшина, чьи взаимоотношения с реальностью вдвойне усложнены: во-первых, непомерно большими претензиями, ранимостью и обидчивостью, во-вторых, неумением применяться к меняющимся обстоятельствам? Да, все эти непременные — и неудобные! — свойства, увы, при нем. Однако в «Печках-лавочках» Шукшин позаботился еще и о том, чтобы мы почувствовали в Иване Расторгуеве прекрасного работника. Как он достиг этой цели, трудно сказать: мы ведь и не увидели даже Расторгуева на тракторе, видели только, что косит — мастерски, азартно и мерно. И все же чисто актерскими средствами, повадкой, пластикой, внутренним достоинством, которое остается при Иване всегда, Шукшин сумел отрекомендовать нам героя фильма так, что усомниться в его трудовых доблестях невозможно. Что бы он ни выкомаривал и в какие бы немыслимые коллизии ни попадал, перед нами — трудящийся человек, мастер, знающий себе цену. В данном-то конкретном случае многие завихрения Ивана Расторгуева вызваны как раз ощущением собственной социальной ценности, проверенным, устойчивым, но и неизбежно преувеличенным. Этот феномен, к слову сказать, всегда занимал Шукшина: его тревожило какое-то неблагополучие в противоестественно усложнившемся отношении к труду. Резко акцентируя свойственное Ивану Расторгуеву самосознание труженика, Шукшин не упускал из виду и его заносчивость. И сразу же затевал вокруг самонадеянности Ивана Расторгуева насмешливую игру. Как только Иван и Нюра оказывались в обыкновенном купе железнодорожного вагона, на них тотчас бросалась в атаку совершенно незнакомая жизнь. Из той «тысячи мелочей», которые таились в ее загадочном универмаге, Шукшин выбрал первую попавшуюся, самую пустяшную, но выяснялось, что и такая ерунда — она тоже обладает большой провоцирующей силой. Проводник требует два рубля за постели: во-первых, трата вовсе непредвиденная, во-вторых, деньги-то у Нюры где? Деньги — в чулке, и, чтобы их достать, юбку задирать приходится... Этот маленький эпизод задел самолюбие Ивана, он стал куражиться перед случайным попутчиком, сперва, как водится, прибедняясь — мол, мы, деревенские, темнота, не знаем ничего, что с нас взять!.. — а как только попутчик принял его самоуничижение всерьез и начал — со своей-то городской высоты — посмеиваться над деревенскими, сидели бы, дескать, дома, Иван тотчас же вызверился, затеял ссору, потребовал, чтобы попутчик «не тыкал», чтобы он «поганые ухмылочки-то не строил», и пригрозил яростно: «Пойдешь пешком! По шпалам!» В этот миг скулы Ивана сведены злобой, глаза побелели от гнева, он говорит запальчивым шепотом, кажется, что вот-вот сорвется на крик. Нюра — в ужасе. Критик Юрий Ханютин, комментируя этот эпизод, заметил: «Уж какая там патриархальность, здесь чуть ли не Достоевский вылезает». В Достоевском — сомневаюсь, что же касается пресловутой «патриархальности», то Ханютин, который, к несчастью, не надолго Шукшина пережил, был прав: в «Печках-лавочках» она почти не участвует, во всяком случае, Иван Расторгуев от нее далеко ушел. Шукшин недаром дал своему герою хороший, новенький городской костюм, который на нем сидит прекрасно, недаром позаботился о том, чтобы рубашка Ивана Расторгуева сияла ослепительной белизной, чтобы галстук был завязан и скромно и красиво: знай наших! Весь внешний облик тракториста на отдыхе демонстрирует заявку на равенство с горожанами — без всякого подобострастия и без всякой склонности перед городом стыдливо потупиться. Всякий раз, когда Иван говорит о деревне серьезно и ответственно — такую возможность Шукшин ему предоставляет не однажды, — мы убеждаемся, что взгляды у него отнюдь не патриархальные. Новизна, однако, выкидывает такие неожиданные коленца, что даже самонадеянный Иван теряется. Самая сильная эмоциональная встряска связана с появлением в купе наглого поездного вора. Жулик, которого вальяжно сыграл Г. Бурков, выдает себя за конструктора. Что он там плетет про свое изобретение — не суть важно. Другое важно и в высшей степени симптоматично для героев Шукшина вообще, для Ивана Расторгуева в частности. Живущие в быстрый век величайших научных открытий и потому готовые во что угодно поверить (а как не поверить, если люди на Луну летают, сердца пересаживают, если реально, въявь существуют не только тракторы, но и телевизоры, не только комбайны, но и компьютеры?!), они собственное воображение тоже настраивают на волну НТР. От науки и техники приучены ждать чудес. Иван Расторгуев, конечно же, легче поверит в ученого, создавшего поезд, который по воздуху, безо всякого моста, скачет через реки (такова идея «конструктора»), нежели примет всерьез профессора, собирающего народные речения и песни. Потому-то мнимый конструктор легко завоевывает его доверие, а настоящий ученый ему подозрителен. И хотя, конечно, тут работает и более простая, более грубая механика: обжегшись на молоке, Иван дует на воду, тем не менее идея летающего поезда укладывается в сознании тракториста легче, нежели идея изучения фольклора. Надо, впрочем, сказать, что вся фольклорная тема, вполне импозантно представленная профессором, которого сыграл В. Санаев, и еще одним, тоже ученым, которого сыграл З. Гердт, наименее удалась в «Печках-лавочках». Причины неудачи обнажает эмоционально близкий этой теме и смыслово с ней связанный эпизод, когда в поезде, в соседнем купе, некий молодой «бард» поет под гитару слащавую песню о России, волнующую Ивана Расторгуева чуть не до слез. Такие вот умилительные мотивы неорганичны для Шукшина, недаром он сам тотчас же и тут же их пародировал, ехидно выводя на посмешище столичных любителей деревенской старины, коллекционирующих самовары, часы с кукушками, иконы, отпускающих себе допетровские длинные бороды. Но в полемике против поверхностного, своекорыстного и высокомерного отношения к «патриархальной» старине Шукшин иной раз несколько прямолинейно выдвигал принцип подлинно творческого ее восприятия. И в «Печках-лавочках» происходил некоторый эмоциональный срыв, как только действие переносилось в чересчур большую, слишком роскошную московскую квартиру почтенного фольклориста. Тут все было похоже, но приблизительно, более или менее возможно, но не обязательно. Эти сценки шли в тональности сравнительно спокойной, при нормальной комнатной температуре. А все же курьезный, почти анекдотический, поданный как эстрадный номер эпизод «конструктора по железным дорогам с авиационным уклоном» воспринимался как более достоверный, вот ведь что удивительно! Мы всему верили — и сытым, благодушно-ленивым, покровительственным интонациям Г. Буркова, и застенчивому восторгу, с которым Нюра — Л. Федосеева, конфузясь, принимала и мерила дареную кофточку, и той радости легкого, приятного общения с «конструктором», которую испытывал Иван: он ведь в этот момент не только «конструктора» уважал, он чувствовал, что и его уважают, что вот — ученый человек, изобретатель, а с ним наравне, и, значит, и другие его уважают, а коли так, то вся его отчаянная затея может очень даже хорошо, прекрасно обернуться! И затем много дальше, когда Иван и Нюра оказывались в Крыму и Иван вдруг пускался вприсядку перед двумя горделивыми беломраморными львами Воронцовского дворца, когда разыгрывался опять же совершенно анекдотический сюжет с главным врачом санатория, который, само собой ясно, не мог принять по одной путевке и мужа и жену, а Иван никак не мог взять в толк, почему врач отказывает (и возьмет ли взятку, и сколько надо давать, и как давать?) — вся эта вздорная, дурацкая коллизия опять казалась неоспоримо подлинной, единственно возможной. Ибо вот именно в таких нелепых по внешности, несуразных, гиперболически утрированных столкновениях с трудно постижимой реальностью другой жизни, фантастическое устройство которой мешало сметливому, умному, находчивому Ивану Расторгуеву отличить жулика от честного изобретателя и честного медика от жулика, бойко шутя и весело играя, высказывала себя главная тема произведения. Сквозь весь этот вздор прорывалась мысль о том, что Иван Расторгуев не только имеет право на всю эту фантастическую другую жизнь, но и о том, что он в силах и способен это право реализовать, осуществить. Смейтесь, коли хотите, над широченными длинными трусами, которые нелепо болтаются вокруг сухих, костистых ног Ивана, шагающего по гальке мимо загорелых курортников, мимо дам в красивых купальниках и мужчин в импортных плавках! Смейтесь, коли хотите, над Нюрой, которая все никак не осмелится раздеться на пляже. Смейтесь! А все-таки вы не можете не заметить улыбку тихого счастья на ее лице. Не можете не понять, что счастье Нюры завоевал — для нее! — ее мужик, мужчина, муж. Он тут — победитель, Иван Расторгуев. Улыбка Нюры многое означает. Героиня в этот момент как бы сама себе говорит: «А мой-то — всех лучше!» Хоть и поганый характер, хоть и намучаешься с ним, все же только он один может этакое задумать и этакое осуществить! А Иван, совершивший целую серию подвигов (которые в глазах горожанина выглядят просто: купил билеты, сел с женой в поезд и, с одной пересадкой, приехал в Крым), Иван теперь никого не задирает, ни к кому не вяжется, не прибедняется и не хвастается. Он тут, на пляже, собеседников не ищет, он спокоен и равен самому себе. Что задумал, то сделал. И хотя его одиссея была уморительно смешной, все же вы с уважением взглянете на него, когда после панорамы крымского пляжа мгновенной перебивкой режиссер покажет нам вспаханное поле на Алтае и на краю этого огромного поля, как на краю земного шара, вы снова увидите Ивана. Он сидит босой, докуривает свою сигарету, сумрачно думает о чем-то своем. Ветер разметывает его непокорные волосы. Потом Иван вдруг поднимает глаза, встречается с нами взглядом и говорит веско и просто: «Все, ребята, конец...» Все прежние фильмы Шукшина, когда появилась «Калина красная», обрели новое значение и новый смысл. Они, предыдущие и предшествующие, во всей их неуравновешенности, во всей характерной для них сбивчивости ритмов, то полных энергии, то расслабленных, стали восприниматься как серия киноэскизов к «Калине красной», самой сильной и зрелой работе, после которой жизнь Шукшина оборвалась. Картину эту смотришь — с самого начала до самого конца — с чувством счастливой и одновременно мучительной влюбленности в ее героя. Сострадаешь ему, смеешься над ним, им восхищаешься и возмущаешься, а в иные моменты замираешь от ощущения собственной, уже неодолимой связанности с его судьбой. Василий Шукшин, во всех смыслах слова Автор фильма, сценарист, постановщик и исполнитель главной роли, в «Калине красной» без всякого видимого усилия запросто и сразу же вырывает зрителя из его собственной так или иначе, плохо ли, хорошо ли устроенной жизни, сталкивает нас в поток чужой доли, и вот уже мы оказываемся в стремнине, уносящей героя, мы — с ним, мы — в нем, и всякая его боль отзывается в нашем сердце. Такая вот полная, до самозабвения, до отчаяния слитность с героем, как ни странно, не мешает все время видеть его и со стороны, взглядом всепроникающим и всеведущим... Только не будем обманываться — это не наша, это Шукшина проницательность, его ум и его взгляд. Это он сыграл Егора Прокудина так, что мы, зрители, оказались сразу и внутри этой бедовой судьбы — и — снаружи ее, в ней и вне ее, прожили ее и поняли ее одновременно. Как же сыграл Шукшин и что он сыграл? Можно, конечно, без особого усилия определить, вероятно, даже начертить широкую амплитуду колебаний характера Егора Прокудина — от его природной душевной щедрости до его же каменной жестокости, от добросердечности до грубости, от застенчивости до наглости, от его постоянной готовности смело и бесшабашно играть судьбой до его же страстного стремления судьбу свою прочно устроить и надежно поставить — и так далее... Можно обнаружить во всей этой крикливой сумятице противоречий, теснящихся в одной душе, виртуозность актерского мастерства, которую, конечно же, надо бы усмотреть в легкости, незаметности переходов из крайности в крайность. Ведь тут все вместе и все рядом: жажда риска и жажда покоя, усталость и неутомимость, улыбка и оскал, первая проба и давний опыт, твердая мужская красота и совершенно дурацкая несуразность. Игра Шукшина в этом фильме — не торжество мастерства, но великое мужество откровенности и самораскрытия. Он не «играет» Егора Прокудина, он только высвобождает его из глубин собственной души. Хотя, казалось бы, что нам и что самому Василию Шукшину до Егора Прокудина? Обыкновенный уголовник, отсидевший свой срок, выходит на волю. Ситуация, которая сразу же после этого обозначается, достаточно банальна. Бывший вор склоняется к тому, чтобы стать наконец честным тружеником, прежние его дружки, бандиты и жулики, живущие «в законе», противятся этому желанию, любой ценой готовы удержать его в своей среде и в повиновении. Такие коллизии многократно использованы, стали даже трафаретными, разработаны во множестве вариантов. Вариант, который предлагает Шукшин, ничем не лучше других и нисколько не нов. Во всей теме воровской «малины», занимающей в структуре фильма скромное место, неожиданно, пожалуй, только одно: граничащая с непрофессиональностью небрежность, с которой сняты эти приблизительные кадры. И еще — поразительная торопливость, особенно режущая глаза после глубокого и взволнованного зачина произведения. Фильм начинается в тюрьме. На сцене тюремного клуба, на фоне неизбежных аляповатых плакатов, хор бывших рецидивистов исполняет — с воодушевлением и тоской — «Вечерний звон». Арестант-конферансье без тени юмора объявляет: «В группе «бим-бом» участвуют те, у кого завтра оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним.». Группа «бим-бом» теснится на левом краю сцены. В центре группы с лицом жестким и хмурым — Егор Прокудин. Руки привычно убраны за спину. Он почти не поет — не поддается власти мелодии, которую так старательно выводят другие арестанты, он только время от времени, едва разжимая губы, формально и безошибочно вставляет свое: — Бом... бом... бом... Камера скользит по лицам заключенных, слушающих песню. Коротко остриженные головы, самые разные лица, но — общее для всех выражение забвения и отрешенности. Старинный напев уносит их далеко за пределы тюремных стен, на волю, туда, куда выйдет сейчас Егор Прокудин. Вот за его спиной с лязгом захлопывается тюремная дверь. Вслед ему сквозь решетку глядит один из заключенных, вслед ему с нескрываемой завистью смотрит молоденький охранник-казах. В черной кожанке, в красной трикотажной рубашке, в кепке, крепко надвинутой на лоб, Егор выходит на свет божий. Останавливается на мгновение и щурится под мягким и ярким светом дня. Так вот она какая, свобода!.. Серая, едва поблескивающая вода, смутные, бесконечные дали. Егор идет по деревянным мосткам долго, мощно, уверенно. Решительно и громко стучат его кирзовые сапоги. Крупным планом оператор показывает нам сперва эти мерно и гулко шагающие ноги Егора, а потом уж его лицо — скуластое, сильное. Новый, еще более крупный план показывает нам лицо Егора Прокудина, когда его уже мчит вдаль попутная машина, когда ликующая музыка новенького, только что купленного транзистора заливает весь мир, проносящийся за ветровым стеклом. В этот миг, когда тюрьма осталась далеко позади, лицо Егора светится уже нескрываемым довольством, а в наставительных интонациях разговора с владельцем машины слышатся даже ноты бахвальства и самоуверенности. И вдруг с неожиданной повелительностью он говорит: — Ну-ка, останови-ка, сынок, я своих подружек встретил. Музыка умолкает. В целомудренной тишине оператор Анатолий Заболоцкий медленно вводит нас в прозрачную, насквозь пронизанную светом березовую рощу. Ранняя весна. Прелые прошлогодние листья шуршат под ногами Егора, серовато-белые полосы не стаявшего снега грустно лежат на влажной земле. Стволы берез тянутся вверх, к ясному синему небу, там, вверху, в пересечении тонких голых веток сидит ворона. Егор прижимает свое лицо к шершавости березового ствола и разговаривает с березой просто, без всякого пафоса, как со старой подружкой: — Ну что, невестушка, заждалась? В ответ вороны поднимают зловещий крик над его головой. Но Егор возражает воронам спокойно и с твердым достоинством: — Во, разорались-то. Нет уж, вы пока надо мной не каркайте. И тотчас перебивка: снова звучит музыка, бравурная и свободная, а в кадре широкой панорамой разворачивается новый пейзаж: бескрайние белесые воды, среди которых стоит белая, обезглавленная, с пустыми глазницами выбитых окон, мертвая, громоздкая, но все же поныне красивая церковь. В сущности, еще ничего не случилось, ничего не произошло. Возникли, однако, внутренне драматичные отношения между складной, подтянутой фигурой Егора и скромными картинами родной земли, тихо плывущими перед его глазами, между пламенеющим цветом его рубахи и грустной прелестью холодных вод, лесов, полей, между энергией, ощутимой в человеке, и тайным упреком, с которым встречает его заждавшийся мир. Ибо мы верим, что березы его заждались. Ибо мы видим, что какое-то тревожное, беспокойное чувство терзает Прокудина, мечущегося в красной своей рубашке по комфортабельному салону речной «ракеты»: что-то не сидится ему, неможется, что-то неладно, какая-то мучительная дума его будто корежит, дергает, и он пошловато гаерствует, стараясь вовлечь в разговор случайного, невозмутимого соседа, как прежде пытался «разговорить» владельца новенького «москвича». Так, исподволь, заявлена главная тема фильма — тема вины Егора Прокудина перед родиной, открывающей ему свои печальные и прекрасные просторы, ему понятной, перед ним доверчиво распахнутой, но властно и требовательно ожидающей искупления вины и возрождения души. Как и следовало ожидать, вор с многозначительной кличкой Горе пробует сперва восстановить оборванные связи с былой своей жизнью. Долго стучится к некой Нинон, но, увы, Нинон уехала куда-то на Север. Егор мрачно сидит на улице, во тьме, рассекаемой тусклым мерцанием фонаря, в мгновенных вспышках тотчас исчезающего света. Лицо Прокудина освещается снова и снова, и всякий раз это другое лицо. Красноватые блики озаряют его хмурую озлобленность, обиду, желчность, тоскливое беспокойство, решимость, досаду, гнев, — выражения меняются, но во всех этих сменах, я бы даже сказал, во всех этих лицах Егора — одна мысль, в них один вопрос: что же теперь делать с собой, со своей жизнью, куда себя девать, где себя применить? Свобода, которой он дожидался, как праздника, предстала Егору Прокудину во всей будничной и неумолимой простоте обязательств, с ней сопряженных. Он свободен решать, как ему жить, но это значит, что он — обязан решить, и от этой вот необходимости никуда не денешься. Егор, впрочем, пытается покуда решение отложить, отодвинуть, потому-то и оказывается в воровской «малине»... Весь эпизод бесшабашной гулянки воров, как уже сказано, снят условно и приблизительно. Случайные вещи, случайные люди, случайные позы. Единственное, что врезается в память, — ноги Егора, небрежно, с ленцой переступающие в пляске. Движения легкие, вполсилы, за ними чувствуется возможность совсем иного пляса — буйного, азартного, но только — не сейчас, не здесь, как-нибудь в другой раз... А ведь эти сапоги недавно еще так тяжко и решительно шагали по деревянным мосткам, унося Егора на волю. И эти же сапоги теперь уносят его от погони: бесшумно, экономно, по-волчьи привычно и размашисто бежит Егор по ночному городку, мимо высоких поленниц, вдоль длинной набережной, прячется под обрывом у самой воды, сидит скрючившись, и опять мерцающий красноватый свет падает внезапными бликами на его меняющееся лицо... И снова вступает музыка. Не особенно затрудняя себя пояснениями, что да как, да где и почему, Шукшин внезапно показывает нам Егора на карусели. Можно, конечно, догадаться, что, как только милиция сбилась со следа, Егор вышел из укрытия, легкими, пружинистыми волчьими шажками побрел по городку, вошел в какой-то летний сад и, почувствовав себя в безопасности, раскрутил карусель. А можно и не догадываться, не утруждать себя. Режиссеру другое важно: в этом фантастическом и маловероятном уголке обыкновенного мира, на карусели, среди больших и ночью-то нисколечко не забавных, а скорее — призрачных и страшных зверей сидит на деревянном вертящемся круге, поджавши под себя ноги, его герой и напряженно, трудно думает о своей жизни, которую вроде бы пора уже начинать. Карусель кружится, и блики неверного света снова и снова — в третий раз — пробегают по его лицу. Немолодое лицо, ясно, что если он сейчас не возьмется за ум, то после будет поздно. А за кадром слышится диалог Егора Прокудина с его деревенской «заочницей» Любой Байкаловой. Слышится даже незатейливая ее песня: «Сорвала я цветок полевой, приколола на кофточку белую». Тотчас и внезапно происходит монтажная перебивка. В белой кофточке, в клетчатой юбке, сияя добротой, стоит на автобусной остановке где-то в дальней-дальней тишине Люба Байкалова и встречает его — Егора Прокудина. И это — не сон, не сладостное видение, это самая что ни на есть действительная реальность. Реальна лошадь, помахивающая хвостом. Реальна цветущая ветка сирени, тяжело вывалившаяся за ограду. Реальна деревенская девушка, подглядывающая из-за забора, и еще более реальны — куда уж там! — деревенские детишки: они во все глаза смотрят на Любу Байкалову, к которой приближается, походкой легкой и упругой, незнакомый мужик в черной кожанке и красной, пламенеющей рубашке... Лидия Федосеева сыграла Любу Байкалову с неприметным искусством и глубоко запрятанным мастерством. Душевной перекрученности, переменчивости и даже капризности Егора Прокудина противопоставлена спокойная, нерушимая ясность, его порывистой динамике — ее статичность, его нервности — плавность, его внутреннему смятению и раздвоенности — гармония, уравновешенность. Для Любы естественно, как дыхание, чувство единственности той жизни, какой она живет с малолетства и будет жить всегда. Мир Егора велик и многообразен, он мысленно видит перед собой самые далекие и по-всякому заманчивые стежки-дорожки, и еще неизвестно, куда какая выведет, и в этой неизвестности — самый большой для него соблазн. Мир Любы Байкаловой очерчен скромным, недальним горизонтом полей. Тут, в этом селе, все ее прошлое и все ее мыслимое будущее. Тем не менее две эти столь разные натуры объединяет одна общая черта. И Егор и Люба, во всем друг от друга отличные, в одном сходятся: оба не умеют жить согласно пресной логике здравого смысла, не подчиняются скучному ранжиру и тусклой прозаичности будничного расчета. Эта внезапная общность проступает вполне определенно и сильно в первом же их обстоятельном разговоре в сельской чайной за бутылкой «красненького», когда Егор, привычно импровизируя, пытается наспех и «в общих чертах» сочинить себе добропорядочную биографию ни в чем не повинного бухгалтера, арестованного «по недоразумению», а Люба мягко и предупредительно сразу же его останавливает: она писала начальнику тюрьмы, начальник ей ответил, так что фантазировать не стоит. Егор на мгновение выбит из колеи, лицо его становится вдруг каменно-замкнутым, рука тянется к бутылке, но он тотчас овладевает собой и начинает с ходу другую, тоже давно отрепетированную роль: изображает себя «ворюгой несусветным», отпетым бандитом. Люба смотрит на него с грустью, не верит ни одному его слову. Но этот бедовый парень с каждой минутой все больше ей нравится. Что-то в нем есть подкупающе гибельное. Что-то подсказывает Любе: судьба, никуда от нее не денешься. Играя Егора, Шукшин все время дает нам понять, как трудно, почти невозможно ему быть до дна откровенным. Самые искренние душевные движения выступают наружу, неизбежно искаженные обязательностью позы. Он может быть «молодчиком каленым» или рубахой-парнем, отчаянным бандитом или невинной овечкой, может казаться заносчивым, а может и смиренным, все это Егору легко. Трудно ему только быть с другими вот таким, каким мы видели его в отблесках мигающего фонаря: самим собою. Однако и эта вот чуть ли не актерская переменчивость Егора, для него самого подчас мучительная, — и она тоже ведь говорит о природной яркости, незаурядности человека, чья судьба сейчас — мы это видим — тоскливо раскачивается между добром и злом. А Люба Байкалова, такая наивная и неопытная рядом с ним-то, вдруг ошеломляет его внезапным и проникновенным замечанием: мол, он, Егор, устал. Просто устал. В этих словах — не только неотразимая точность, но и такая мера бескорыстного бабьего сочувствия, какой Егор, быть может, на протяжении всей своей пестрой жизни никогда не знавал. Она ему врезается прямо в сердце, эта простодушная доброта, так легко отбрасывающая прочь и магазины, которые он «подламывал», и его «семь судимостей», и его колонии и тюрьмы, и все его разнообразные «роли». Егор перестает куражиться, притихает и — послушно идет за Любой к ее дому. Ему вдруг становится непривычно легко от сознания, что этой женщине врать решительно незачем. Что куда ни кинь, как себя ни приукрашивай, Люба безошибочным женским инстинктом без всякого усилия отодвинет эффектную ложь, чтобы спокойно принять некрасивую правду. Знакомство Егора Прокудина с родителями Любы подано Шукшиным с безграничным и озорным комизмом. Когда Люба оставила его наедине с отцом и матерью, дабы они друг с другом освоились, Егор, слегка раздраженный подозрительностью стариков, что называется, «дает гастроль». Легко и непринужденно меняя роли, то изображая отпетого убийцу, то допрашивая старика со строгостью и ухватками дотошного следователя, Егор быстро повергает родителей Любы в состояние полной растерянности. Мизансцена выстроена Шукшиным непринужденно. В центре, будто на эстраде, по-хозяйски стоит Егор, подвижный и уверенный в себе, говорит, властно жестикулируя, а справа и слева от него, неловко, как-то боком и косо, будто чужие в собственной избе, боясь пошелохнуться, сидят и смотрят на него во все глаза перепуганные старики. На мгновение — перебивка: Люба, переодеваясь перед зеркалом, с улыбкой слушает, что он там несет. Потом старики помаленьку приходят в себя и начинают возражать распалившемуся Егору. И Люба весело говорит самой себе: — Заварила кашу. Что-то теперь будет?.. Снова и снова крупными планами придвигается к нам лицо Любы: какая все же поэзия в его округлой простоте, в серьезных глазах, подернутых поволокой недоумения и боязни, но в самой-то последней глубине, всему вопреки — смеющихся! — Я, конечно, не знаю, — говорит она, будто вслушиваясь в себя и себе удивляясь, — но вот мне кажется, что он хороший человек... Глаза у него какие-то грустные, вот хоть убейте меня тут... В эти грустные Егоровы глаза Люба пристально вглядывается и во время гулянки по случаю появления в доме Байкаловых столь необычайного гостя. А режиссер Шукшин из всей многофигурной композиции, им же самим тут, в доме Байкаловых, организованной, изо всех людей, сидящих за столом, вдруг выхватывает одного — с шиком одетого в добротный городской костюм, при галстуке, с запонками, поблескивающими в белоснежных манжетах рубашки, с толстым золотым кольцом на пальце. Человек этот, на котором вдруг, оглядев все застолье, с внезапным интересом надолго останавливается объектив, горестно пьян. Уронив голову на руку, с пьяной тщательностью и меланхолией, всю душу вкладывая в песню, он выводит слово за словом куплет об архангельском мужике, который «по своей и божьей воле стал разумен и велик». И еще о том, что «поприще широко, знай работай да не трусь! Вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь!» Эти последние слова он поет, уже вовсе рыдая. Шукшин дает нам почувствовать и всю меру искренности певца и заученную повторность этой искренности. Другие гости терпеливо пережидают неизбежный обязательный и давно им знакомый «номер». Ясно, что всякий раз, как выпьет, он заводит все ту же песню, что высокое чувство, которое сейчас им владеет, в другое-то время, натрезве, вряд ли посещает его... Такой вот пьяноватый наплыв благородных эмоций был, я думаю, одновременно и понятен и смешон Шукшину. В этой теме он требовал максимальной ответственности, ибо сам-то вел по тому же поводу совсем иной, требующий большой нравственной силы разговор. И судьба Егора Прокудина в этом серьезном разговоре — аргумент не последний. Ведь речь в «Калине красной» идет не только о возвращении человека из искаженного мира мнимых доблестей и вымышленных «праздников» к естественности и простоте труда, любви, семьи. Речь идет и о возвращении блудного сына в родные края. Вся эта до боли Егору Прокудину близкая земля с ее лесами и полями, с ее шоссейными дорогами, с ее водами, рассекаемыми стремительным движением новеньких изящных судов, с ее тяжелыми тракторами и юркими газиками, с ее бревенчатыми избами и городскими помещениями, где властвуют уже пластик и стекло, — будто распростерлась в ожидании. Обыкновенная земля, снятая не напоказ, не для туристского любования завлекательной прелестью пейзажей, а во имя утверждения ее доподлинной реальности, намеренно взятой в скромном «районном масштабе», увиденная в ее северной, самой непритязательной и, быть может, самой пронзительной красоте. Россия Александра Яшина, Василия Белова, Валентина Распутина, естественная и поэтичная, вот как Люба Байкалова... В таком ощущении красоты — сокровенная лирика Шукшина, но, как всегда, ей сопутствует ирония: он отчетливо видит, например, унизительную банальность неизбежного концерта в районном клубе, слышит ужасающую псевдоинтеллигентную интонацию миловидной женщины, ведущей концерт и превращающей конферанс в лекцию (или лекцию в конферанс, какая разница), он насмешливо поглядывает на дородных и пожилых пейзанок в кокошниках и длинных конусообразных платьях, машинально выводящих уверенными голосами сперва старинные, потом нынешние песни. Мир, который открывается перед Егором Прокудиным, вовсе не идилличен, он только реален. И предстоящее ему «поприще» при всех обстоятельствах — самое обыкновенное: работа в колхозе. Шукшин вовсе не хотел бы обещать герою златые горы, нет, он может посулить Егору только подлинный мир со всеми его подлинными трудностями. Тем значительнее решение, которое Прокудину предстоит принять. Хотя при всей серьезности задачи Шукшин вовсе не прочь подшутить над своим героем и нисколько не боится унизить его, ведь сам-то Егор себя унизил — дальше некуда. Вот он появляется перед нами в новеньком костюмчике, только что купленном в районном универмаге, в ярком красно-синем галстуке, кепочке блином и в мягких бежевых мокасинах... В этот момент, сквозь смех, Прокудина жаль — ординарность одежды умаляет его человеческий масштаб. Дальше довольно большая вереница кадров идет без всякого текста, под залихватский мотивчик, сопровождающий похождения Егора в районном центре: он шагает за одной девушкой, волочится за другой, заглядывается на третью, на четвертую... Одна полненькая, другая худенькая, одна хорошенькая, другая не очень, но для него сейчас разницы нет — всякая могла бы стать «праздником». Одну он даже и не видит вовсе, она закрыта от Егора афишным стендом, из-под стенда выглядывают только ноги. Это слишком соблазнительно. Егор не выдержал, нагнулся, осторожно погладил ногу девушки. Естественно, тотчас же раздался отчаянный вопль, и музыка, ликовавшая в душе Егора, сразу смолкла. Весь большой эксцентрический проход Прокудина по райцентру снят остроумно и точно. Однако затем начинается новая и, на мой взгляд, вовсе не получившаяся у Шукшина тема: Егор Прокудин подбивает официанта за большие деньги устроить все тот же «праздник» или, как он выражается, «забег в ширину», «небольшой, аккуратненький бордельеро». Тут, как и в эпизоде воровской «малины», все снова становится смутным и приблизительным. Действие фильма второй раз перебито, и кажется даже, что остановлено. К счастью, затем оно снова набирает захватывающую скорость и полноту биения крови. С затаенным коварством Шукшин готовит герою самое страшное испытание. К этому испытанию он приводит Егора уже, казалось бы, вплотную приблизив решение всей Прокудинской судьбы и высветлив для него возможное счастье. Люба Байкалова стала Егору душевно близка, рядом с ней он чувствует себя совсем иным человеком. Без всякой позы и без надрыва, как бы помимо собственной воли, даже и не принимая никакого решения, не произнося по этому поводу никаких слов, он постепенно срастается с новой, плавно и мягко его обнимающей участью, вживается в трудовую жизнь. Этот процесс «врастания» Егора Прокудина в семью любимой женщины, в простой и здоровый быт села, в колхозную работу воспринимается с полным доверием именно потому, что Шукшин, не тратя лишних слов и тщательно избегая громких фраз, раскрывает нам перемены, происходящие с Егором, как его возвращение к самому себе, к собственной доподлинности, к тому человеческому и живому, что мы все время смутно ощущали, мучаясь за Егора или посмеиваясь над ним. Шукшин не очень-то фиксирует внимание на том, что Егор отказался водить легковушку и попросился на трактор. Мы и заметить не успели важнейшего события: бывший преступник начал работать. Потому, что не это — не то, что Егор стал трактористом — главное для Шукшина. Главное будет после. Вместе с Любой Егор едет в деревню Сосновку, где живет давным-давно им брошенная родная мать. Разговор поручено вести Любе, сам Егор в черных очках, боясь быть узнанным, слушает из соседней комнаты бесхитростный старушечий рассказ. Лицо матери, Куделихи, оператор снимает такими же крупными планами, какими он снимал только самого Егора да Любу. И эти крупные планы — самое сильное, самое тяжкое, неотвратимое обвинение против Егора Прокудина, выдвинутое Шукшиным. Горе окаменело и уже навсегда застыло в этом лице, в сетке глубоких морщин, его изрезавших, в выражении эпического, почти что благостного спокойствия, с которым старуха, шамкая беззубым ртом и тряся головой, говорит о бедственном своем существовании. Выцветшие глаза, непослушная, неразборчивая речь и, кажется, физически ощутимые стены полного одиночества, навсегда обступившего эту скудную жизнь. Даже и со стороны, даже и глядя из зрительного зала, трудно это перенести. Каково же Егору, который — рядом и который в этом повинен? Вот приговор, который нельзя ни оспорить, ни опротестовать, вот оно — наказание без всякой надежды на амнистию. Все комедийные интонации, так разнообразно и весело звучавшие в фильме, теперь забыты. Трагедия властно и бесповоротно вступает в свои права. Егор выбегает из материнского дома. Люба идет следом за ним, а Куделиха выглядывает сперва в одно окно, потом в другое и смотрит сквозь темные стекла с доброй и покорной улыбкой уже ничему не удивляющейся безропотной старости, с измученным, почти уродливым, но освещенным каким-то тайным внутренним светом лицом. Эта старушечья улыбка невыносима, а музыка знай себе играет что-то веселенькое... И Егор с перекошенным лицом, с ужасом в глазах бросается на землю, вопит, рыдает, кается... Тут Шукшин — настоящий трагик, и тут он сполна рассчитывается со своим героем, отдавая Егора на суд его собственной, не знающей пощады совести. Сейчас, здесь, именно здесь, именно сейчас, царапая руками землю, корчась и воя на фоне хрупкой, к небу устремленной белой церквушки, заново рождается человек. Вот в этот момент, когда он оказался лицом к лицу с самым тяжким из своих злодеяний — не раньше и не позже, — испытывается его воля к жизни. Вынесет — выживет. Не вынесет — нравственно погибнет. Дальнейшее движение фильма позволяет нам надеяться, что Егор в состоянии одолеть свое прошлое, что он способен, превозмогая тяжесть вины, не забывая ее, но и не утопая в ней, вернуться к себе самому, к своей, казалось, уже навсегда утраченной подлинности. В его желании «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком» есть, как сказал поэт, готовность «глядеть на вещи без боязни», есть трезвое и достойное мужество начала. А потому неожиданно значительны становятся самые обыденные, внешне как будто даже и бездейственные кадры; Егор сидит возле бани и задумчиво, серьезно глядит прямо на нас, Егор в прозаическом ватнике и голубоватой рубашке буднично и спокойно ведет трактор по сереющему полю... Спокойно лежит озеро в ясных дневных лучах солнца. Лесные опушки пронизаны светом. Егор ведет свой трактор, и позади него остается уже вспаханное, дышащее поле. Вдруг белые птицы — верно, прилетевшие с реки чайки — большой стаей опускаются на пашню. И тотчас мы видим стаю черных ворон, тяжело рассевшихся в ветках березы. Мрачное предчувствие беды сгущается на экране, хотя Егор все так же уверенно ведет трактор по пашне, не замечая ни белых, ни черных птиц. Внезапно — первый и последний раз — Шукшин вдруг отказывается от цветной пленки, и черно-белые кадры тюремного воспоминания завладевают экраном. Заключенный поет знакомые есенинские слова о том, как хочется «скорее от тоски мятежной воротиться в старенький наш дом»... Его слушают, позабывши себя, такие же, под машинку стриженные арестанты. Слушают и верят, что «к старому возврата больше нет», слушают, и надеются увидеть тот самый «несказанный свет», который уже озарил судьбу Егора Прокудина. А как только песня смолкает и мир вновь становится многокрасочным, мы видим там, вдали, на краю широкого поля, небольшую группку людей, остановившихся возле легковой машины. Мы понимаем, что это смерть, что пришла она за Егором. И Егор это понимает. В онемевшем безмолвии он деловито засовывает в карман гаечный ключ и шагает по пашне — к тем, которые стоят на опушке, ожидая его: то ли судьи, то ли палачи. Фигура Егора удаляется от нас, и мы не слышим, о чем он говорит с ними, видим только, что мужественное спокойствие не покидает его, что он там, вдали, на краю поля и на краю собственной жизни — не суетится, не трусит. Отдаленность всей этой группы, ее отодвинутость в самую глубину кадра, целиком занятого тихим и скорбным простором поля, — великолепная догадка Шукшина. Нам незачем слушать убийц Прокудина и незачем разглядывать их пустые лица. Ясно, что убийцы выступают здесь в аллегорической роли: статисты, действиями которых дирижирует жестокое и беспощадное прошлое. Егор погибает. Кровь проступает сквозь рубашку, заливает живот, пачкает руки Любы, теперь уже ничем не способной ему помочь, пачкает белую кору березы, возле которой Егора настигла смерть. Она сперва воспринимается не как логическое завершение жизни, прошедшей перед нами, а только как нелепое, дикое, противоестественное возражение ее естественному развитию. Вот почему ярость, заливающая глаза Любиного брата, Петра, нам не просто понятна, но и нужна, это наша ярость, наша клокочущая ненависть, мы сами ее испытываем. Мы будто вместе с Петром, ни о чем, кроме возмездия, не думая, направляем тяжелый самосвал на машину убийц, чтобы стереть их с лица земли, раздавить, уничтожить. А в печи горят поленья, и пламя мечется тревожно и весело. Крупным планом в последний раз перед нами печальное и прекрасное лицо Любы Байкаловой. Из-за кадра доносится голос Егора Прокудина — и в этом хрипловатом и внятном голосе слышится воля к жизни, торжествующая даже и после смерти. Да, он погиб, Прокудин Егор, который сейчас, из-за кадра, запросто обращается к нам со своими «наилучшими пожеланиями». Но прежде чем погибнуть, он успел и сумел — с помощью этой вот женщины, его вспоминающей, — доказать, что достоин человеческого существования, путь к которому оказался и тяжким и долгим, но все же — посильным ему. Гибель Егора Прокудина приходит как внезапное торжество мрака над спокойным и теплым «несказанным светом», наконец озарившим и согревшим героя, как полная катастрофа, в которой логики нет. Трагический абсурд? Однако мы ведь предчувствовали катастрофу, со страхом ловили ее предвестья, ощущали ее приближение? Значит, в этой варварской случайности таилась неизбежность? Значит, смерть все же была предопределена той трагической виной Егора Прокудина, прямое олицетворение которой — образ старой Куделихи, символичный во всей своей нестерпимой жизненности? Стоит еще раз вспомнить, как шагает Егор навстречу гибели, буднично и не торопясь пересекая и одолевая им же самим только что вспаханное поле. Как прозаично и тускло, уже с пулей в животе, обливаясь кровью, отвергает он и обнадеживающие фразы Петра и попытки Любы ему помочь, его спасти. Нет, его не надо ни утешать, ни спасать. Поздно. Сухими глазами он смотрит прямо в глаза смерти, зная, что происшедшая катастрофа, увы, не абсурдна. В ней есть высший смысл, теперь-то Егору понятный. Удар, который наносят нам в финале судьба и автор (ибо автор трагедии, хоть он и отдает душу герою, все же обязан последнее слово предоставить судьбе), удар этот мучителен и тяжел. Но он выталкивает все содержание фильма на новую высоту бескомпромиссного размышления о нравственном облике человека, который так легко исказить и опошлить и которому так немыслимо трудно, почти невозможно вернуть прежнюю цельность и подлинность. Эта мысль является нам во всей ее простоте уже после катастрофы, после великого очищения болью и мукой, которое способна принести одна только трагедия. Шукшин заставил нас выстрадать свою «неслыханную простоту», зная, что она «всего нужнее людям», хотя, конечно же, поэт прав, и — «сложное понятней им». Сквозь толщу этих сложностей и пробивался Шукшин. В напряженных коллизиях нынешней общественной жизни простые истины подчас затмеваются чересчур витиеватым переплетением разнообразных аргументов «за» и «против». Словесная толчея, ее шум и треск заглушают голос человеческой совести, однообразный, ибо единственный, негромкий, ибо неоспоримый. А в скорбной тишине трагедийного финала «Калины красной» один только этот голос и звучит.
|
| © 2008—2025 Василий Шукшин.
При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |