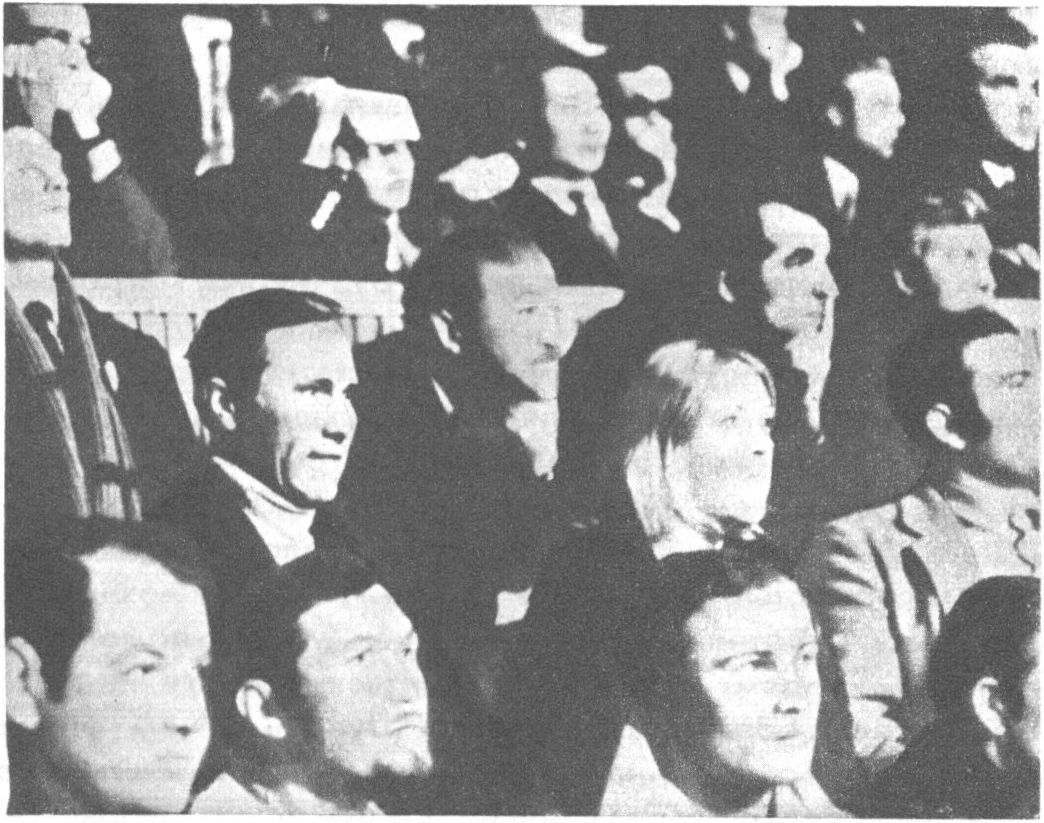|
|
Главная / Публикации / Л. Федосеева-Шукшина, Р. Черненко. «О Шукшине: Экран и жизнь»
Всеволод Санаев. Три жизни Василия МакаровичаЯ часто слышу: расскажите, каким он был? Странная просьба. Вроде бы Шукшин так щедро раскрывался — и в книгах своих, и в фильмах, и в актерских работах (где почти не прибегал к гриму). Был он прост в общении, не замыкался, не хитрил, говорил откровенно, как и писал. Оттого сразу и нашел прямой путь к сердцам читателей, зрителей. Оттого и друзей у него было немало, настоящих, искренних, к которым и он тянулся. Впрочем, как у всякого прямого, до резкости, человека были у него и недоброжелатели и не понимавшие, чего это он ищет не там, где все? А он свято верил в самоценность человеческой личности — и болью в сердце его отдавалась любая чужая несложившаяся судьба, и радовался он каждому движению души человека, если видел в этом движении предвестие каких-то важных внутренних сдвигов, тех, которые в совокупности со всей нашей жизнью выведут общество и человека к новым, коммунистическим высотам нравственности. И, проводя «раскопки» в душах своих героев, показывая порой мучительную противоречивость процесса их развития, он помогал людям разбираться в сложностях собственной жизни. Что это так — свидетельствуют хотя бы те 160 тысяч писем, которые в первые же дни после его внезапной смерти пришли в Госкино СССР, в Союз писателей, на студию, в редакции газет, на его квартиру. Кажется, Бунин писал о том, что человек стремится к писательству потому, что слово нетленно. И Шукшин тоже не ушел из нашей жизни — он перевоплотился, перешел в книги, в фильмы и «другие долгие дела». Смерть оказалась бессильной перед его талантом. Да, мы многое о нем знаем. Знаем о его творческом пути от первых сборников рассказов до последнего киносценария «Брат мой...», по которому был снят фильм «Земляки» товарищем Шукшина по ВГИКу режиссером Виноградовым. Но трудно охватить все, что было написано, сыграно, сделано, задумано Василием Шукшиным за пятнадцать лет его жизни в искусстве, а ведь до этого тоже была жизнь, мы знаем, что он работал в сельском хозяйстве, был слесарем, грузчиком, матросом, сельским учителем, комсомольским работником... Не оттого ли с полным правом он мог судить о мере взыскательности художника к своему труду, об его ответственности перед людьми? Насколько помогает делу и человеку его искусство? Он говорил: «Мы пашем неглубоко, не поднимаем значения хозяина земли, работника не по найму, а по убеждению. Среди крестьян мало таких, кто отважится сказать с гордостью: «А я сею хлеб!» И вот тут возникает проблема для нас, работников искусства, как умнее помочь осознать себя молодым людям, чтобы определиться в жизни...». И сейчас, чем больше думаешь о Шукшине, чем глубже вникаешь в то, что он оставил нам, перечитываешь его книги, смотришь вновь картины, вспоминаешь личные встречи и разговоры, тем точнее начинаешь понимать, почему зрители или читатели так часто и так пристально спрашивают: каким он был? Трудно ответить однозначно. Тем более когда речь идет о художнике, который весь был в поиске, в движении, о художнике, чья творческая мысль не давала ему ни минуты покоя. Но счастлив тот, кто испытал высокое беспокойство творчества! Шукшин был счастливым художником. У него были его звездные часы, несмотря на их невидимую для других, непосвященных, изнурительную трудность. Проще и легче, наверное, было, когда он работал грузчиком, таскал тяжести. Неизмеримо труднее — когда стал он художником, да еще взвалил на себя тройной груз. «Двужильными» называют в жизни работяг, которые работают за двоих, называют с удивлением и восхищением. А он был «трехжильным»! И писатель, и режиссер, и актер одновременно! Большинству — и одной такой поклажи «за глаза». Ему же всего было мало. Жил он взахлеб, яростно, неистово. Торопился, будто чувствовал раннюю смерть, и торопился досказать, довысказаться, оставить себя людям — в слове, в фильме, в актерском образе. Какое в этом его особое — шукшинское — жизнелюбие! Вот строки из его рассказа «Земляки»: «Стариковское дело — спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку вся сокрытая, изумительная, вечная красота Жизни. Кто-то хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею. И ушел. И уходят. И таким медленным звоном, как звенят теплые удила усталых коней, отдают шаги уходящих. Хорошо, мучительно хорошо было жить. Не уходил бы!» Это написано так мужественно, но в то же время так тоскливо щемит сердце — будто писал он и про себя. Да так ведь оно и есть — каждая строка у писателя автобиографическая в самом высоком смысле. За ней стоит личное, прочувствованное, пережитое. Видно, однажды дало знать о себе болью сердце, защемило ночью, быть может, в тот самый момент, когда, закрывшись от домочадцев в тесной кухоньке, писал он за маленьким столом, нещадно дымя сигаретой, травя себя крепчайшим кофе. И как истинный художник, он и эту боль словно оторвал от себя, чтобы стыла она неутихающе в рассказе. И подчеркнул: это стариковское дело — спокойно думать о смерти. Сам он так думать не смог! О Василии Шукшине нельзя говорить «накоротке», хотя вся его жизнь, все этапы его творчества, многое, о чем он думал с сердечной болью или любовью, — все вроде бы перед нашими глазами. Он не был скрытным. Хотя, быть может, не перед каждым и не сразу раскрывался во всей своей душевной щедрости. Требовалось время, чтобы сполна почувствовать тот пульс творчества, который постоянно бился в Шукшине. И каждый раз у каждого это было по-своему. Может быть, оттого у тех, кто с ним встречался, складывалось свое представление о нем; в совокупности совпадений эти представления и дают теперь возможность ощутить неисчерпаемую глубину и сложность этого дорогого всем нам человека. Наверное, люди, которые его знали ближе, встретились с ним раньше, воспринимали его по-другому, чем я. Я же его узнал, когда он уже был зрелым художником, известным актером, когда он уже писал рассказы, крупные прозаические вещи — «Любавины», например. Мы, актеры, всегда относимся с осторожностью к людям, которые как-то сразу и вдруг ярко заявляют о себе, о своем таланте. А я — особенно. Потому, наверное, что у меня самого творческий процесс, процесс постижения, открытия нового происходит всегда сложно. Я всегда отношусь мучительно самокритично к каждой своей работе. Когда же человек вдруг заявляет о себе, что он очень талантлив или даже гениален (а в нашей среде такое услышать — отнюдь не редкость), то одни воспринимают это снисходительно (что ж, в творчестве, в нашей профессии самоутверждение необходимо!), другие — с юмором. Я же всегда воспринимаю такие заявления с раздражением, не могу смотреть равнодушно на людей, которые занимаются бахвальством: вот, мол, они все могут, все им доступно, а в том, что они пока еще не раскрылись, не утвердились, виноват кто-то другой — режиссер ли, который «не видит» их, недостаточность ли драматургического материала или другие какие-то «объективные» причины и условия. Мне это кажется нескромностью, признаком творческой недееспособности. Но, пожалуй, никто не может сказать такого о Василии Шукшине. Он даже самые свои талантливые вещи всегда делал, как бы подшучивая над собой. Ну, пишу, мол, от нечего делать. Снимаюсь, потому что есть сейчас такая возможность. Буду снимать фильм сам, потому что, думаю, как режиссер, смогу выразить на экране то, что не выразил в собственном сценарии. Вот так он и относился к себе, к своему творчеству. А за этим стояли — требовательность, взыскательность, серьезность. Рассказывают, что когда он пришел учиться во ВГИК чуть ли не в шинели, в кирзовых сапогах, на него смотрели как на чудака. Но, когда он говорил или выходил как актер на сцену — еще пока в эпизодах, в отрывках, — у всех появлялось чувство недоумения — как это ему все удавалось, как это собрались в нем одном такие разные способности? Все это я узнал позднее. Наше же знакомство началось с моей ошибки, которую я не могу простить себе до сих пор. Однажды он позвонил мне: «Всеволод Васильевич, я хочу поставить картину. Не могли ли бы вы принять участие в съемках?» Я спросил: «А кто написал сценарий?» — «Я». — «А режиссером будете тоже вы?» — «Тоже я». И вот тут-то я засомневался: не многого ли он хочет? И так ли уж много отпущено ему природой, чтобы был он сразу и жнец, и швец, и на дуде игрец? Да, актер он талантливый: это он доказал в фильме «Два Федора». Но зачем же он начинает теперь писать еще и сценарии, да еще и сам ставить их! И мне показалось, что Шукшин переоценивает себя. Тогда-то я и сослался на то, что занят, вроде бы не смогу принять участие в его картине. «Ну что ж, очень жаль, — ответил он. — А мне бы хотелось». Я еще раз уклонился: «Ну как-нибудь в другой раз!» И вот вышла эта его картина — «Живет такой парень». Не скрою, смотрел я ее с пристрастием. Но она мне очень понравилась. По-моему, великолепный фильм! И такое меня охватило чувство, что я решил написать ему письмо, покаяться, так мне стало обидно, что я не снялся у него. Но сказал я ему об этом не в письме, а позже, при личной встрече. Так завязались наши дружеские отношения с Шукшиным. Потом он задумал снимать новую картину — «Ваш сын и брат». Вновь мне позвонил, предложил встретиться. Мы встретились. Он стал мне рассказывать о замысле фильма, об особенностях сценария, об образе Ермолая Воеводина, в котором он хотел бы меня видеть. Это был типично его, шукшинский герой, простой и сложный одновременно; характер, словно впитавший в себя народную мудрость и словно пронизанный беспокойной мучительной болью за то, что не все так гладко и складно в его жизни, в его семье, как следовало бы, как ему хотелось бы. Но раскрывает Ермолай свои горькие думы не легко и не всем. Ермолай — крепкий, немногословный старик, хотя и насмешливый, даже щедрый на острое словцо, которое для него — словно защитная броня. «Вечным тружеником, добрым и честным человеком» назвал его Шукшин. Мне кажется, что в Ермолая он вложил многие свои мысли, раздумья. Вот как, например, в одну горькую минуту скажет Ермолай старшему сыну: «Жизнь кончается, сынок, а жалко...» Жалко — потому что жизнь его сложилась не так, как мечталось, распалась семья, не удержала сыновей сила земли, уехали они в город. Жалко — потому что хотелось бы ему понять: почему так случилось, кто виноват в этом? В чем нашли смысл своей жизни его сыновья, а в чем они ошиблись? В мучительных этих раздумьях Ермолая — высота его нравственной позиции, мудрость человека, обретшего смысл жизни в труде на родной земле. Мудрость «вечного труженика»... В этом — и его необоримая сила. Разговаривая тогда, Шукшин все поглядывал на мои руки. Что его могло в них так заинтересовать? Быть может, нелепая наколка, мальчишеская глупость? «Да нет, — пояснил он. — Я вот все смотрю: у Ермолая руки кряжистые, огрубевшие. Он человек, все время связанный с землей, с тяжелой физической работой. У таких с годами кожа дубеет. А вот у вас руки такие, какие у Ермолая быть не могли». Я сказал, что, конечно, все это имеет большое значение для образа, но мне кажется, что если сущность Ермолая будет мною понята правильно, если удастся найти характерные черты этого человека, который так мучается, переживает, что дети уходят от него в город, что некому передать свою любовь к земле, если мы найдем все эти краски, то на руки никто из зрителей не будет обращать никакого внимания. Ведь для зрителей важен психологический процесс, который происходит в Ермолае. Так мы с ним тогда и порешили. Я об этом говорю потому, что потом, на съемках, не раз убеждался, как важна для Шукшина правда не только характера в целом, но и правдивость, жизненная точность, достоверность каждой детали. Размышляя о его методе, убеждаюсь, что главное было для него — правда жизни. И так — во всем, все время. Это касается и его героев. Он делал предметом своего художнического исследования людей, хорошо ему известных, не прикрашивая их, а словно вырывая из самой жизни, приближая их к нам со всеми их «странностями» и «чудинками». Своих героев он любил, но не старался их идеализировать. Как я понимаю, его очень волновали обычные люди, которых зачастую и героями-то назвать трудно; в таких людях его привлекала душевная неуспокоенность. Жизнь давала ему немало примеров героических характеров. И он видел их, восхищался ими, как и все мы. Но для него все в таких героях было ясно, понятно. Интересовало же другое — люди, не проявившие себя ни в чем героическом, не захваченные общим процессом роста, развития страны, доходящим до самых глубин человеческой души. Процесс сложный... Он говорил, например: «Возьмем город и деревню. Нет ли тут какого-нибудь у меня противопоставления? Нет. Сколько ни ищу в себе обиды на город, не нахожу. Если и есть что-то похожее на неприязнь к городу — так это ревность: он сманивает от земли своими возможностями молодежь! Вот здесь, действительно, начинается и боль и тревога. Если экономист, социолог с цифрами в руках докажет мне, что отток населения из деревни — процесс неизбежный, то он никогда не докажет, что процесс этот безболезненный, свободный от драматизма. Значит, искусству не может быть все равно, куда пошагал человек...» Вот почему мучается — его думами и, конечно же, своими собственными, Ермолай. В его жизни Шукшину важно было рассмотреть проблемы нашей действительности. И показать их точно, правдиво. Чтобы никакая, пусть даже самая несущественная деталь не смогла бы своей приблизительностью, «неправдивостью» порушить веру зрителя в Правду. Поэтому-то он так придирчиво искал реальные приметы внешней характерности Ермолая. Помню, сделали мы первый грим, подобрали бороду, усы, нашли одежду. Смотрю, он улыбается. У него были такие хитрые глаза, монгольские, с прищуром. Руки потирает, довольный: «По-моему, Всеволод Васильевич, получается, а?» Я говорю: «Да не знаю еще, Вася. Попробуем, как все это получится на пленке». Сделали пробу. «Ну вот, видите, — говорит он, — я не зря вам предлагал сниматься. Мне кажется, что Ермолай у нас «в кармане». Так и сказал: в кармане... И начал снимать. Ну что можно сказать о том, как все это происходило? За плечами у меня к тому времени — уже почти шестьдесят фильмов, много было и режиссеров, естественно — разных. И взаимоотношения у меня с ними складывались тоже по-разному. И многие из них позабылись, так, ровно бы их никогда и не было в моей жизни. А вот ту первую свою картину с Шукшиным, буквально каждый съемочный день, я помню до сих пор. До удивления просто и легко с ним работалось! Каждый день нес в себе творчество. Шукшин так доверял актеру, что у того появлялись как бы неограниченные возможности для самовыявления. Он же только следил за тем, чтобы актер «не сбивался с образа». Но эти редкие замечания били так точно, словно он сам сидел у тебя внутри и, не подавая виду, только что проиграл всю твою роль. И что бы актер ни предлагал, Шукшин никогда не говорил: нет, это не годится! Он говорил: а что, давайте попробуем! И отходил как-то в стороночку, словно стремился затеряться на съемочной площадке, не помешать актерскому эксперименту взглядом со стороны. А потом вновь появлялся — и: «Ну что ж, можно, можно и так... Даже интереснее...» Я не знаю, может быть, с другими актерами он работал и по-другому. Я же пишу о том, что видел, испытал сам. Мы никогда, ни разу не разошлись с ним, с его задумкой. Может, оттого и работалось нам так удивительно легко. Вообще в моей жизни было мало случаев, когда бы я спорил с режиссерами, отстаивая позицию, может, и верную для меня, но мешающую целостности замысла фильма. Я считаю — режиссер видит все в совокупности, мы же, актеры, как правило, — только частности. Расхождения наши и проявляются в этом, в частностях, в небольших кусочках. Режиссер для меня как дирижер, у которого в оркестре каждый инструмент должен звучать точно в соответствии с замыслом. Режиссер слышит и отдельные партии инструментов, и оркестр в целом, и всю симфонию. Но и актер, конечно, не просто исполнитель чужой воли, он ведь тоже художник и свободен в своем поиске. Но такая свобода приходит только тогда, когда актер осознает необходимость своего звучания в фильме именно в заданной ему тональности. Оправдать, сделать ее естественной для себя, «своей» — вот задача для актера как художника. Бывает так: и сценарий хороший, и режиссер опытный, но актер на роль выбран неверно — и все идет насмарку, фильм получается серым. Вот тогда-то и возникает конфликт между нашей профессией и режиссерской. Как бы режиссер ни старался, ни бился, если актер был выбран на роль неправильно, раскрыть его, как правило, в процессе съемок почти никогда не удается. Тогда-то и начинаются поиски компромиссных решений, а в результате невольно меняется, не на пользу картине, и замысел сценариста и режиссера. У Шукшина в его фильмах — он их сделал пять, в трех из них я играл и потому могу говорить с уверенностью — я ни разу не видел, чтобы актеры были «не те», неправильно выбранные. У него всегда было точное видение, абсолютный «слух» на актера для своей картины. Правда, я считаю, что в фильме «Печки-лавочки» моя роль в сценарии была богаче: там она включала в себя и биографию героя, что позволяло мне, актеру, точнее определить неординарность характера. А в процессе съемок это ушло, и роль от этого потеряла в главном: в своей предыстории и человеческой конкретности. Может, Шукшин понадеялся на меня, на мою интуицию, что я сам, без его помощи, сумею точно донести существо замысла своего образа? Не знаю... Знаю только, что роль эта не очень мне удалась. Я не пытаюсь искать причины неудачи где-то вне себя: оправдываться или обвинять кого-либо. Мне просто досадно, что сам я, видимо, не сумел «дотянуться» до образа, который был так интересно задуман и прописан Шукшиным в сценарии. По-другому складывалось мое творческое общение с ним в работе над образами Ермолая и председателя колхоза Рязанцева в «Странных людях». Тут все говорило мне о том, что мы необычайно близки друг другу — по духу, по главным, определяющим жизненным и художественным принципам. Недаром мы с ним так часто говорили о нашем дальнейшем содружестве. А сейчас, когда его уже нет, я особенно жалею, что не сыграл пусть даже самую маленькую, эпизодическую роль в его «Калине красной». Для меня как актера это было бы наслаждением. Однажды, перед самым отъездом Шукшина на съемки фильма «Они сражались за Родину», мы встретились с ним в Доме актера, и он повел разговор о своем замысле картины о Степане Разине. Он еще раз подтвердил тогда свое желание дать мне в ней замечательную роль представителя казачьей вольницы — Стыря, старика, который имел особое влияние на Степана Разина, мог уговорить его, даже утихомирить в гневе. Стырь человек удивительного характера, жизнелюбивый, он был написан с тонким пониманием и глубокой любовью, народным юмором, на который был так щедр Шукшин. Помню, он рассказал мне о таком задуманном эпизоде: когда в одной из кровавых стычек Стырь погибает, Разин усадил мертвого за стол вместе с живыми, одев его в длинную холщовую рубаху, тем самым как бы отдав дань мужеству и мудрости этого простого человека из народа, достойного такой необычной почести. Он рассказывал и о том, какой видел всю картину в целом, как хотелось ему сыграть Степана Разина. И я спросил: не будет ли ему тяжело играть и одновременно снимать такое широкое, эпическое по размаху полотно? «Я думаю — осилю, — сказал он. — Подготовлюсь, отдохну. Надо отдохнуть! Что-то я стал уставать. Надо бы привести себя в порядок. Но только — после съемок шолоховского романа. Тут я никак не мог отказаться от роли Лопахина — очень люблю и Шолохова и Бондарчука. Поэтому и согласился, отложив на некоторое время свои планы». Это был наш последний разговор. Поди знай, что такое могло случиться. Если бы знал человек, когда и где он упадет! А сейчас, что же, только и остается пожалеть о том, как нерасчетливо мы обращаемся с жизнью, забываем о том, что всему бывает конец, и оттого не рассчитываем свои возможности. Знать бы, когда оборвется твоя жизненная веревочка, наверное, многого можно было бы избежать, не тратить сил и энергии на мелочи и жить каждую отпущенную тебе природой минуту с полной отдачей. И люди, если б они знали, когда подойдет твоя последняя черта, могли бы предостеречь тебя, поберечь, отнестись к тебе поласковее, что ли, повнимательнее. И может быть, тогда успела бы сложиться еще одна песня, от которой богаче стала бы наша общая жизнь. Вот так, мне кажется, ушел преждевременно Шукшин, только еще запев великолепную русскую песню, которая будет звучать в наших душах еще долго. И перечитывая теперь его рассказы, его сценарии, повести и романы, видя фильмы, мы будем ощущать горячее биение его живого сердца, слышать живые, неповторимые интонации его голоса. Он очень любил жизнь. И отдавал себя искусству капля за каплей. Возвращаясь к истокам народной жизни, он сам вошел в нее, растворился, слился с ней. Вслед за Леонидом Леоновым он мог бы сказать: «Жизнь — самый щедрый художник, но летит она очень быстро. Человек не успевает порой осмыслить всего великого, происходящего в ней. Есть очень много настоящих героев; но они не понимают своего подвига. В человеке всегда больше материала, чем он способен вынести на поверхность. Для выявления этого и существуют художники... Наше дело — обнаружить и добраться до вещей, которых люди сами не замечают. Человек смотрит, художник видит... Мы ходим по шедеврам, они у нас под ногами. Нужно уметь разглядеть их...» Таким был и Василий Шукшин. Он жил так насыщенно, напряженно, что сумел ярко прожить не одну, а три жизни художника. В последнее время он говорил, что бросит кино, уйдет в литературу. Не знаю, как бы сложилось все в действительности. Знаю только — он не смог бы жить одной жизнью. Сердце его было беспокойным и щедрым. Оно властно призывало его к большему! Таким мы все его и запомнили...
|
| © 2008—2026 Василий Шукшин.
При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна. |